— Тогда пойдем, по крайней мере, к тебе в комнату, — поспешно предложил он.
— Нет, здесь безопаснее, — стоял на своем Эдмунд, — опускаясь в кресло. — Мне нужно много рассказать тебе… например, как я получил эту знаменитую рану, взволновавшую весь Эттерсберг, хотя о ней не стоило бы говорить.
Освальд беспокойно взглянул на бумаги, под которыми лежал спрятанный медальон.
— Как это случилось? — рассеянно спросил он. — Мне сказали, что когда ты прыгал через кочку, твое ружье разрядилось?
— Да, так мы рассказали прислуге, и мама с дядей также не узнают ничего другого. Но перед тобой мне нечего скрывать. Я дрался на дуэли с одним из приглашенных на охоту гостей, бароном Занденом.
— С Занденом? — насторожился Освальд. — Что же произошло между вами?
— Он позволил себе оскорбительное выражение в мой адрес, Я потребовал у него объяснений; слово за слово разгорелся спор, и в конце концов мы решили наутро свести наши счеты. Как видишь, обошлось довольно благополучно. Мне придется самое большее с неделю носить руку на повязке, а Занден отделался такой же царапиной на плече.
— Значит, из-за этого ты оставался там лишнюю ночь?! Почему же ты не вызвал Меня нарочным?
— Как секунданта? Это было лишнее, эту услугу мне оказал наш хозяин, а в качестве огорченного родственника ты все равно явился бы слишком поздно.
— Эдмунд, не говори так легкомысленно о серьезных вещах! — с недовольством промолвил Освальд. — Во время любой дуэли на карту приходится ставить жизнь.
— Боже мой! По-твоему, мне надо было бы сначала составить завещание, торжественно вызвать тебя для прощания и оставить трогательное «прости» Гедвиге. К таким вещам следует относиться как можно проще и полагаться на свое счастье.
— Как видно, слова противника были для тебя далеко не так безразличны. Чем он, собственно, так оскорбил тебя?
— Речь зашла о старом процессе из-за Дорнау. Меня дразнили тем, что я проникся практической идеей закончить процесс свадьбой. Я беспечно ответил на эту шутку. Тут Занден произнес такую фразу: «Так как Дорнау переходит к Эттерсбергу, то все предыдущие старания в этом отношении были совершенно напрасны».
— Ты ведь знаешь, что твоя невеста отказала барону, — пожимая плечами, сказал Освальд, — Естественно, что при каждом удобном и неудобном случае он готов уколоть тебя.
— Да, но его фраза была направлена против моей матери, — проворчал Эдмунд. — Ведь ни для кого не тайна, что она решительно восстала против брака своей двоюродной сестры с Рюстовым и всегда была на стороне разгневанного отца. Она очень высокого мнения о своем происхождении и своих сословных правах и считала своей обязанностью со всей энергией вступаться за них. Именно поэтому я так высоко ценю жертву, которую она приносит мне. Но свои слова барон Занден произнес так, будто завещание было внушено дяде Францу из корыстных целей, чтобы Дорнау досталось мне. Неужели я должен терпеть это?
— Ты заходишь слишком далеко. Не думаю, чтобы Занден думал именно так.
— Все равно, я понял это именно так. Почему же он не отрицал, когда я потребовал у него объяснения? Может быть, я и погорячился, но в этом отношении я очень щепетилен. Ты часто упрекаешь меня в легкомыслии, но есть границы, за которые оно не переходит, и тогда я смотрю на вещи серьезнее, чем ты.
— Я знаю это, — медленно сказал Освальд. — В двух случаях ты можешь чувствовать глубоко и серьезно: когда затрагиваются твое чувство чести и твоя мать!
— И они составляют одно целое! — почти грозно воскликнул Эдмунд, — и кто оскорбит их хоть тенью подозрения, тот будет иметь дело со мной!
Он вскочил и гордо выпрямился. Обычно веселое и беспечное выражение его лица сменилось глубокой серьезностью, а глаза горели страстным волнением.
Освальд замолчал; встав около письменного стола, он приготовился отбросить бумаги и вынуть портрет, но, услышав последние слова графа, невольно остановился. Почему в этот момент должен был состояться именно такой разговор?
— Я никогда не подозревал, что это завещание могло дать повод к такому толкованию, — снова начал Эдмунд, — В противном случае уже тогда, когда умер дядя, я отказался бы от наследства и никогда не допустил бы процесса. Если бы Гедвига осталась мне чужой и судьба присудила мне Дорнау, мне кажется, клеветники не побоялись бы сделать меня пособником обмана.
— Можно быть и жертвой обмана, — глухо проговорил Освальд.
— Жертвой? — повторил граф, быстро оборачиваясь к брату. — Что ты хочешь этим сказать?
Рука Освальда лежала на бумагах, скрывавших роковой медальон, но он холодно ответил:
— Ничего! Я не думал сейчас о Дорнау. Нам ведь известно лучше чем кому бы то ни было, что дядя Франц действовал по своей воле. Но завещание составлено в твою пользу, в ущерб дочери; в таких случаях есть место клевете, и она толкует о постороннем влиянии. В данной ситуации, что вполне естественно, могли подумать, что мать требовала всего в интересах сына.
— Тогда это было бы мошенничеством, — снова вспыхнул Эдмунд. — Я не понимаю тебя, Освальд. Как ты можешь с таким равнодушием говорить о таком позоре? Или как т ы это назовешь, когда законного наследника отстраняют, а его место занимает другой, ему достается все имущество? Я называю это обманом, поступком бесчестным, и одна мысль о том, что нечто подобное можно связать с именем Эттерсбергов, заставляет закипать во мне кровь.
Рука Освальда медленно скользнула по столу, и он отошел в угол комнаты, куда не падал свет лампы.
— Подобное подозрение к тебе было бы жестокой несправедливостью, — сказал он с ударением. — Но свет всегда судит зло; правда, ему часто приходится делать неприятные открытия. Как раз в нашем кругу подчас разыгрываются темные семейные драмы, долгие годы скрывающиеся от всех. Но вдруг по воле случая они становятся известны, и кто-нибудь, занимающий блестящее положение, таит в себе сознание вины, которая, если бы открылась, уничтожила бы его.
— Ну, я не был бы способен на это, — ответил граф, поворачивая к брату свое прекрасное открытое лицо. — Я должен смотреть на свет и на себя честными глазами, должен свободно дышать и иметь возможность презирать всякое преступление, всякий обман, иначе для меня нет больше жизни. Темные семейные драмы! Конечно, их бывает больше, чем полагают, но я не потерпел бы такой тени на моем роде и сам вывел бы все на чистую воду.
— А если бы ты вынужден был молчать ради семейной чести?
— Тогда я, вероятно, умер бы, потому что не мог бы жить с сознанием, что на мне и на моем имени клеймо позора.
Освальд провел рукой по лбу, покрытому холодным потом, между тем как его взгляд напряженно следил за каждым движением брата. Быть может, теперь вовсе не требовалось помощи с его стороны, случай снимал с него тяжелую обязанность, которая все-таки должна быть выполнена. Эдмунд подошел к письменному столу и, продолжая возбужденно говорить, перебирал бумаги, не глядя на них. Еще немного, и он мог увидеть медальон, старомодная форма которого должна будет обратить на себя его внимание, и тогда катастрофа неминуема.
— По крайней мере, теперь знают, как я отношусь к такого рода намекам, — продолжал он, — а урок, полученный Занденом, послужит на пользу и другим. Для клеветы нет ничего святого; своим жалом она поражает и то, что для другого составляет высокий и чистый идеал.
— Идеалы падают в грязь, — проронил Освальд. — Ты, конечно, этого еще не испытал.
— Я говорил о моей матери, — с глубоким чувством промолвил молодой граф.
Освальд ничего не ответил, он, к счастью, стоял в тени, поэтому собеседник не видел, как мучил его этот серьезный разговор. Крайне редко случалось, чтобы Эдмунд был серьезен, и как раз сегодня он был в таком состоянии, как раз сегодня выказывал всю глубину своих чувств. При этом правой рукой он продолжал машинально перебирать бумаги, приближаясь к роковому месту. У Освальда дрожали руки, он хотел отвлечь от стола ничего не подозревавшего брата, но ничего не придумал, и молодой человек остался на своем месте.
— Ты понимаешь теперь, почему я не сказал маме об этой дуэли, несмотря на ее благоприятный исход, — снова начал Эдмунд. — Она спросила бы о причине, и это оскорбило бы ее. Пока я жив, ни малейшее оскорбление не должно ее коснуться. Я скорее лишусь жизни, чем допущу, чтобы ее оклеветали.
Лист за листом перекладывал он отдельные бумаги и взялся уже за последний, под которым лежал медальон; но в тот же миг Освальд схватил его за руку и помешал откинуть лист в сторону.
— Что это значит? — удивленно спросил Эдмунд. — Что с тобой?
Вместо ответа Освальд, обняв его, отвел в сторону.
— Пойдем, Эдмунд! Сядем лучше на диване.
— Почему ты насильно уводишь меня от своего письменного стола? У тебя такой вид, словно он сейчас взорвется. Не положил ли ты туда мины?
— Может быть! — со странной улыбкой ответил Освальд. — Оставь бумаги и пойди сюда!
— О, тебе нечего бояться нескромности с моей стороны, — с волнением заметил граф. — Для этого вовсе не надо было с таким строгим видом класть руку на бумаги. Я и не взглянул бы на них; я взял их в руки совершенно случайно. По-видимому, у тебя имеются там секреты, и я вообще мешаю тебе приводить в порядок твои бумаги. Тогда я лучше уйду.
Он сделал было движение, как бы желая уйти, но Освальд крепко схватил его за руку, воскликнув:
— Нет, Эдмунд, так ты не смеешь уйти от меня. Во всяком случае, не смеешь сегодня.
— Да, правда… ты ведь проводишь здесь последний вечер, — наполовину ворчливо, наполовину уже примирительно промолвил Эдмунд. — Ты делаешь все, что только возможно, чтобы показать мне, как ты равнодушен к этому.
— Ты неправ! Разлука для меня тяжелее, чем ты думаешь. Голос Освальда задрожал так заметно, что Эдмунд с изумлением взглянул на него, и всю его обидчивость как рукой сняло.

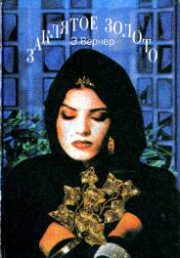
"Гонцы весны" отзывы
Отзывы читателей о книге "Гонцы весны". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Гонцы весны" друзьям в соцсетях.