Повернувшись перед братом еще раз, Франческа внимательно посмотрела на него и спросила:
— Ты что-то хмуришься, Ким. Скажи честно, что тебе во мне не нравится?
— Все замечательно, и ты выглядишь просто чудесно, но, знаешь, когда у тебя волосы собраны в эту прическу а-ля Помпадур, твоя шея кажется длиннее, чем обычно. У тебя нет каких-нибудь бус или чего-нибудь в этом роде?
Франческа поднесла руку к шее.
— Нет. Во всяком случае, ничего подходящего. Если только старинное ожерелье. Как ты думаешь, подойдет?
— Это потрясающая идея. Я уверен, что оно идеально дополнит твой облик. О, а сейчас мне нужно бежать, чтобы вовремя забрать Катарин, — добавил Ким, посмотрев на часы.
Они вышли в холл вместе. Ким взял свой старый плащ и направился к парадной двери. Едва открыв, он тут же захлопнул ее.
— Там льет, как из ведра. Я собирался пройтись до театра пешком, но, пожалуй, возьму машину. И зонтик.
Сняв зонт с вешалки, Ким на ходу чмокнул Франческу в щеку, ободряюще улыбнулся и вышел из дома, весело насвистывая сквозь зубы.
Франческа бегом поднялась наверх, в свою спальню, открыла нижний ящик туалетного столика и вытащила потертый черный кожаный футляр, в котором лежало ожерелье прабабушки ее бабушки. Ожерелье было очень хрупким. Франческа с величайшей осторожностью вынула его из футляра, в очередной раз замирая от восхищения перед его изысканной красотой. В замысловатое переплетение тонких золотых цепочек были вставлены топазы густого медового цвета, отбрасывавшие под светом лампы миллиарды сияющих золотистых призм. Да, оно было прекрасно, но для Франчески это ожерелье значило гораздо больше, чем просто красивое ювелирное изделие. Оно было свидетельством неразрывной связи поколений семьи Каннингхэм и доказывало ее собственную принадлежность к клану. Франческа снова почувствовала, что от ожерелья исходит почти живое дыхание истории. Застегнув его на шее, она посмотрела в зеркало и признала, что Ким был совершенно прав. Ожерелье действительно идеально подходило к наряду. Оно стало эффектным завершением ее облика. Поправив непослушный локон, Франческа поспешила на кухню, чтобы завершить приготовления к ужину.
На какое-то мгновение она отвлеклась от своих дел и взглянула в окошко, выходившее во двор, безуспешно пытаясь представить себе Катарин Темпест. Когда Ким днем вернулся с покупками и слонялся по кухне, пока она пекла деревенский пирог и готовила другие блюда, Франческа задала ему несколько Вопросов о Катарин, стараясь быть как можно более деликатной. Нельзя сказать, что Ким уклонился от ответов; с другой стороны, он был довольно лаконичен и сказал не больше, чем считал нужным. Зная своего брата как свои пять пальцев, Франческа сделала вывод, что он влюблен в Катарин, может быть, даже больше, чем думал сам. Она вспомнила об их отце, и сердце екнуло. Хотя по природе своей он был добрым и веселым человеком, для него неизменно важными были такие понятия, как происхождение и воспитание. Для графа было аксиомой, что женой Кима может стать девушка, обладавшая качествами, абсолютно необходимыми для двенадцатой графини Лэнгли. Он не был снобом в общепринятом значении этого слова, но считал, что сын должен выбрать себе жену из того круга общества, к которому принадлежала их семья. Франческа вздохнула. Актриса как-то не вписывалась в рамки портрета будущей жены Кима. Она интуитивно понимала, что отец не одобрит этот выбор. Если Ким действительно так серьезно настроен в отношении этой девушки (а он был настроен серьезно), его ожидала сильная головная боль. Франческу переполняли любопытство и озабоченность. Но она не могла себе даже представить, во что может вылиться сегодняшний вечер.
6
Занавес опустился под гром аплодисментов, о которых мечтает каждый актер и которые дают ему силы жить и работать. Медленно поднялся снова. Актеры по одному выходили на сцену — сначала занятые в эпизодических ролях, затем исполнители характерных ролей и, один за другим, два ведущих исполнителя мужских ролей. Овация усилилась на втором из них и переросла в оглушительный беспорядочный шквал, когда наконец появилась Катарин Темпест. Лица актеров были освещены улыбками, и они аплодировали вместе с залом.
Когда тяжелый красный бархатный занавес с золотыми кистями опустился и поднялся снова, Катарин сделала несколько шагов вперед под крики «браво». Ее лицо светилось, она низко кланялась, посылала залу вновь и вновь воздушные поцелуи.
На фоне массивных декораций, воссоздававших Древнюю Грецию во всем ее величии и красоте, она казалась маленькой, хрупкой и беззащитной. Стоя в полном одиночестве перед зрителями на самом краю сцены, она принимала их восторженное обожание. Однако в душе она совсем не чувствовала себя одинокой, совсем наоборот — она была не просто равноправным членом, но и баловнем большой любящей семьи. Ее семьи! Ее единственной семьи! Она принадлежала им, а они принадлежали ей, и ничто в мире не могло изменить непреложность этого факта.
Катарин купалась в море зрительского восхищения; к чувству радости примешивалось неоднократно испытанное, но всякий раз переживаемое заново ощущение хорошо сделанной работы, очередного подтверждения ее таланта. Как всегда в такие моменты, Катарин испытала огромное облегчение от того, что ей снова удалось добиться такого успеха. Платой за преданность сцене, дисциплину, самоограничение, тяжелую работу и стремление к совершенству было это пьянящее чувство парения души, порожденное обожанием и преданностью зала. И это была достойная плата.
Катарин могла стоять так, как угодно долго, наслаждаясь своим триумфом и греясь в лучах славы, но она всегда очень ревностно относилась к своим сценическим манерам и помнила об остальных актерах труппы, которым всякий раз уступала место на подмостках, дабы дать им возможность поклониться залу и насладиться причитающейся им долей заработанных тяжким трудом аплодисментов.
Она в который раз осыпала зал прочувствованными воздушными поцелуями, улыбаясь ослепительной улыбкой. Затем повернулась к своему основному партнеру, Терренсу Огдену, и протянула ему руку. Он взял руку Катарин, придвинулся к ней и поклонился — сначала актрисе, а затем залу, овации которого стали совершенно неистовыми. Катарин снова обернулась вполоборота, на этот раз налево, и Джон Лейтон, ее второй партнер по спектаклю, сделал несколько шагов вперед. Перед зрителями, улыбаясь, стояло блестящее трио, каждому из участников которого удалось этим вечером превзойти самого себя. Зал вызывал актеров на «бис» еще четыре раза, прежде чем красный бархат занавеса упал в последний раз и труппа не начала медленно расходиться.
Катарин торопливо сошла со сцены, не перекинувшись и парой фраз с другими актерами, как обычно делала. Она спешила поскорее попасть в свою уборную. Ей было очень жарко, влажный костюм прилип к телу, а парик с гривой рыжих волос никогда не казался таким тяжелым и неудобным, как сегодня. Ощущение зуда под ним было почти непереносимым.
В последнем акте она покрылась такой нехарактерной для нее обильной испариной, что подумала, не заболевает ли. Горло першило и побаливало. Но Катарин понимала, что это результат ее напряженной работы. Пришло время расплачиваться за стремление заставить голос звучать в полную силу в зале театра Сент-Джеймс, отличавшемся безобразной акустикой. Это всерьез обеспокоило Катарин, и она решила, что ей необходимо чаще брать уроки у Сони Моделле, которая считалась большим авторитетом в вопросах постановки голоса. Нужно также более регулярно и старательно делать дыхательные упражнения, поскольку именно правильное дыхание является ключом к красивому голосу, как исподволь внушала ей Соня. В последние четыре года Катарин очень много работала над техникой владения голосом. Благодаря исключительному прилежанию, она смогла добиться очень больших успехов, усовершенствовав тембр, диапазон и ритм, научившись регулировать высоту голоса и полностью избавившись от характерных для среднего запада США интонаций, которые были явно различимы в ее речи, когда Катарин только прибыла в Англию. Соня была приятно удивлена ее исключительными способностями. Обычно скупая на похвалы, несколько дней назад она отметила редкостную музыкальность, появившуюся в голосе Катарин. Моделле признала, что очень немногим актрисам удается достичь такого звучания. Тем не менее Катарин считала, что ей следует продолжить работать над своим голосом, чтобы укрепить его. Ее могло удовлетворить только совершенное владение голосом.
Терри Огден догнал ее за кулисами:
— Эй, киска, куда это ты так спешишь сегодня?
Катарин быстро обернулась к нему:
— Знаешь, Терри, я совсем заработалась. Обычно два спектакля за день, даже таких разных, как сегодняшние, не выбивают меня из колеи, но сегодня я почему-то совершенно вымотана.
— Я тебя прекрасно понимаю. Но какие это были спектакли! Великие! Не побоюсь этого громкого слова. Из всех известных мне актеров и актрис тебе лучше всех инстинктивно удается почувствовать настроение аудитории, мгновенно подстроиться под него. Это действительно редкий талант, киска, особенно у такой молодой особы, как ты.
В каждом слове актера чувствовались симпатия и восхищение.
— Спасибо, сэр, это очень любезно с вашей стороны. Вы сегодня тоже были великолепны, — с улыбкой ответила Катарин.
У нее была такая открытая сияющая улыбка, а в глазах отражалась такая удивительная чистота и невинность, что у Терри сжалось сердце. В ней было что-то абсолютно не поддающееся объяснению, характерное только для нее одной. Чувствовалась какая-то ранимость, уязвимость, которые трогали Терри и порождали в нем желание защитить ее, как беспомощного ребенка, хотя он и подозревал, что за внешней хрупкостью прячется исключительное упорство.
— Ты знаешь, киска, я тебе очень благодарен за помощь. Невозможно поверить, но я почти сбился во втором акте. Меня частично извиняет только то, что для меня это совсем несвойственно. Ты меня спасла, спасибо…

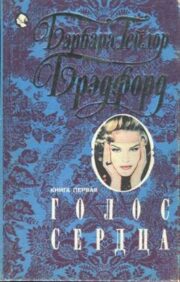
"Голос сердца. Книга первая" отзывы
Отзывы читателей о книге "Голос сердца. Книга первая". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Голос сердца. Книга первая" друзьям в соцсетях.