— Да, моя мама русская. До двенадцати лет я знала язык в совершенстве. Потом она умерла.
— Да… — лицо Лян-фу изобразило сочувствие, — я в курсе… — Руки вертят картонную папку. Надо кончать эту комедию. — Ну что ж, товарищ Чжан, желаю вам успехов в новой работе, было приятно познакомиться. Если возникнут какие-то вопросы, обращайтесь в Уханьское управление, товарищи будут в курсе…
Рукопожатие. Улыбка. Здоровые зубы, не видно ни одной пломбы. Он не провожает ее до дверей. Он очень занят, выдвигает ящик стола, достает какие-то бумаги.
Товарищ Мао улыбается одними глазами. На портрете он одет в такую же точно синюю куртку, как и переводчица Сян-цзэ. Хлопчатобумажную. Единство нации. Скромность. Простота. Дома, в полупустом шкафу, висит темно-синий костюм тонкой шерсти. Костюм начальника управления. Неброский, почти не мнущийся, очень дорогой. Лян-фу имеет на это право, ему пора, он заслужил. Они купили его в прошлое воскресенье, Лян-фу уступил просьбам жены. В кредит, разумеется. Его зарплата — девяносто пять юаней, жена получает шестьдесят. Этот шерстяной костюм стоил сто пятьдесят юаней… Он сам-то что за цветок, он, Лян-фу, заместитель начальника? Ему сорок три, Хан Ли-пину сорок, и он идет на повышение, и у него нет шерстяного костюма. Ли Тян-кую тридцать два, и он приходит на его место. Этот шанс упущен. Но почему? Все знают, конечно, что его головные боли и больная печень — следствие суровых дней гражданской войны, но разве он хоть раз позволил себе взять больничный, разве он не выглядит всегда бодрым и подтянутым? Его жена пока не в курсе, что он не займет место начальника управления…
Плохое настроение. Теперь правая педаль стала прокручиваться, этот велосипед давно пора выкинуть. Она уже не успеет переодеться, к тому же прощальный визит к Ольге Петровне получится скомканным, неудобно. Хотя может это и к лучшему, такая тяжесть от этих посещений… Черт! Она чуть не столкнулась с рикшей. Жара. Пылища. Почему такая давка у входа в зоопарк в будний день? Дальше — кошмар, ей надо проехать мимо строящихся павильонов советской выставки. Нечем дышать. Книги на полках, запах книг, перелистывать их, новые книги, старые в комиссионном отделе… это всегда успокаивает. Она ненадолго зайдет в книжный магазин. Надо успокоить нервы. Нервы? Какая чушь, у нее все прекрасно. Послезавтра она уезжает отсюда… Она не любит Пекин. Пожилой продавец У Тинь-тянь расплылся в улыбке. Ей сразу же вспомнился желтозубый оскал заместителя. Считает себя обаятельным? Он чем-то серьезно болен, и он опиумист, это видно. Зачем он ее вызывал? Встать в шесть утра, тащиться через весь город, наглотаться пыли. Понятно, что он против ее назначения, ненавидит ее. Решил показать, что он тоже начальник. Провел работу… В магазине полно молодежи… Пушкин, Есенин, Маяковский, ничего нового. Достоевский. В комиссионном отделе ранний Блок без обложки, издание пятнадцатого года… мда, и без половины страниц. Ладно, из русского ничего. А вот это уже интересно — Ай Цин, Фэн Ю-лань, Лао Шэ, да тут просто… Лян Шу-мин?!! Значит, это все серьезно? Ху Ши… Ху Фэн? Удивительно[1].
Эта кухня в русском стиле явно требует ремонта: дверь перекосило, штукатурка над плитой висит пузырем, вот-вот обвалится. Ее сын вообще здесь бывает? Спросить — расстроится. Ольга Петровна делает блины и выглядит весьма живописно: зеленые шелковые брюки, поверх — старое голубое платье, ее любимое. Пару месяцев назад она перестала красить волосы, и теперь белая макушка плавно переходит в рыжий хвост, перехваченный алой лентой. Сян-цзэ уже приняла душ, теперь пьет чай на кухне.
— Там полки ломятся от запрещенных изданий, причем неделю назад ничего еще не было, это поразительно…
— Разводят демократию? Что-то не верится… Ты почему блины не ешь?
— Как не ем? Пять штук уже съела. Это новая политика, называется «сто цветов»[2]. Теперь можно говорить все что угодно, очень приветствуется критика в адрес самой партии…
— Не говори ерунды, они просто хотят всех переловить. А тебя уволят в первую очередь.
— Может быть… Как поживает Иван? Он возил вас к врачу?
— Какие врачи могут вылечить катаракту у старухи?! Я не верю никаким врачам.
— Вы что, совсем ослепнуть хотите? Наверняка можно приостановить этот процесс.
— Ты давай ешь блины, хочешь еще какое-нибудь варенье?
— Да нет, я уже не могу, спасибо.
Ольга Петровна наливает себе чай, садится за стол. Когда она чем-то расстроена, лицо становится ассиметричным, тик усиливается. Все равно она красиво постарела: ее лицо совсем не потеряло форму, не обвисло, наоборот — оно подсохло и подтянулось, кожа равномерно покрылась сетью морщин одинаковой глубины, их нет только на носу. Ей семьдесят два. Она закуривает.
— Так когда ты уезжаешь?
— Завтра днем.
Она уезжает послезавтра, но так лучше. Завтра она уж точно не сможет проведать Ольгу Петровну.
— Жаль, я надеялась, мы успеем с тобой дочитать «Капитанскую дочку».
— Ольга Петровна, ну пожалуйста, сходите к врачу.
— Просто я люблю, когда ты мне читаешь, Светочка. А самой мне давно разонравилось, надоели все эти книги… Я думаю, с Лидой что-то случилось… Что-то плохое. Вчера разложила на нее, и такая странная вещь получилась — все карты перевернуты и…
Ее сестра Лида уехала в СССР. В Россию, где никогда не была. Она мечтала об этом всю жизнь. Пятидесятилетняя старая дева откликнулась на призыв советского правительства поднимать целину. Ольга Петровна тоже хочет вернуться, она еще помнит Москву, ей было тринадцать. Она должна сложить свои кости в русской земле, а не в этой, она не хочет, чтобы ее отпевал православный китаец. Сейчас начнется…
— Я должна поехать, пока совсем не ослепла. И пока еще ноги ходят, потому что…
— Ну куда вы поедете?! В Казахстан? Вы же прекрасно знаете, что вас не пустят ни в Москву, ни в любой другой город! Никуда не пустят, кроме Казахстана. Будете осваивать целину?
Она переносит разлуку с сестрой гораздо тяжелее, чем смерть любимого мужа. Но главное — с сестрой они никогда не были особенно близки. Они почти не общались, и вот теперь, пожалуйста — Лида. Карты. Что ей можно возразить? Еще весной она посмеивалась над Лидой, теперь ей тоже надо туда…
— Ольга Петровна, мы поедем в Москву по путевке, следующим летом, я же вам обещала. Вы мне не верите?
— Да верю, Светочка, но ведь и ты уезжаешь… А вдруг тебя не отпустят с работы? Ну, все-все, молчу, только не злись на старуху.
— Вы перестали красить волосы и теперь постоянно называете себя старухой. Давайте я приведу вас в порядок, подстригу и покрашу.
— Сама не знаю, что со мной, наверное, пора на тот свет собираться… Налить еще чайку? У тебя есть время? Давай погадаем на дорожку? Ладно, ладно, я знаю, что ты не любишь… Ты мне напиши обязательно, только крупными буквами…
С ней стало тяжело, а прежде она заливисто смеялась, запрокидывая назад свою изящную маленькую голову, напевала романсы, обожала лирику Маяковского, сама писала стихи. Она была подругой мамы, потом — ее подругой, а теперь старость постепенно отнимает ее у Сян-цзэ. Она единственный человек, кто остается у Сян-цзэ в Пекине. Во всем Китае. Тем более в России.
— Знаешь, Светочка, я долго не могу теперь заснуть, так странно — все время мимо меня проплывают какие-то лица. Они такие желтые, как луны, и почти все незнакомые, хотя изредка я кого-то узнаю. Это лица без тел, есть маленькие и побольше, а есть даже очень большие, огромных размеров… и эти лица просто смотрят на меня, а я на них, и они даже иногда что-то говорят, а я не запоминаю…
Четверг, 20 июня 1957 года, Пекин
Только что вышли из-за стола, за которым испробовали 45 блюд. Мы обедали в храме Блаженства, здесь император слушал оперу. Цинская династия. Вдали горы и горы. Я пишу, сидя в деревянной беседке на берегу озера, на воде цветут розовые лотосы. Среди лотоса очень много крупной рыбы. Ивы, магнолии, олеандры, розы. Каменная дорога с изумительным орнаментом. Я как будто внутри картины. Скоро направимся к храму Приближающейся Весны, из которого император и придворные наблюдали изменения пробуждающейся весной природы.
Неожиданная новость — Вей-дин остается в Пекине, говорит, ей надо пройти какое-то обследование. У меня теперь будет другой переводчик, по словам Вей-дин, в сто раз лучше, чем она. С одной стороны, это неплохо, так как перевод она частенько искажает, особенно это касается терминов. Но у нее прекрасный характер, ко мне очень внимательна, при встрече шутя всегда подает мне обе руки — говорит, в Китае это знак особого уважения. Она дочь бедных родителей, огромное желание учиться, даже среднее образование получила с большим трудом, только к двадцати годам, потом закончила курсы русского языка. Жаль, но надеюсь, все к лучшему.
Мы в зимнем дворце, резиденции правительства КНР. Построен в 1417 г. Дворцовая площ. — периметр 3 км. Вход для всех свободный, даже для рикшей. Для всеобщего обозрения открыт в 1924 г. Императору разрешалось иметь три жены.
Как тонка работа по слоновой кости! В лепестках распустившегося лотоса высечено сто маленьких детей, до двух лет.
Осмотрели за три часа лишь незначительную часть дворца. Под конец нас окружили китайские и румынские пионеры, просили расписаться в их тетрадях. Едем в гостиницу, чтобы отдохнуть перед приемом у министра.
Я перелистываю пожелтевшие странички, уже ветхие. Я понимаю, что эти тетради, аккуратно исписанные мелкими, почти печатными буквами, мне никогда не пригодятся. Сухие и бестолковые дневники, переучет жизни. Тут не за что зацепиться — начиная с сорок пятого и по пятьдесят восьмой. Партсобрания, самокритика, рабочие моменты, какие-то схемы мостовых опор, а описания природы и достопримечательностей куда интереснее прочесть в любом туристическом проспекте. Здесь нет ни личности, ни собственного отношения к жизни. Да и к чему? Он ведь был настоящим коммунистом. Возможно, он боялся писать что-то личное, сомнительное с точки зрения марксизма-ленинизма. Зачем тогда вел дневник? Я не знала своего деда. Мама тоже его не помнит, он пропал где-то в Китае, не вернулся оттуда. Тетрадки вместе с личными вещами переслал бабушке какой-то коллега. Может быть, ему просто нравилось что-то писать? Быть писателем. Графоман? Может быть, это наследственное? Я тоже давно собираюсь попробовать что-то написать, а все никак… Теперь решила записывать все подряд, все, что приходит в голову, всякую чушь, желательно каждый день. Это тоже будет что-то типа дневника, что-то необязательное, незаконченное, что не называется романом или рассказом. Меня преследует комплекс плохой литературы. Напишу — и понимаю, что плохо. А лучше не выходит. Страсть записывать слова — как и страсть к рыбной ловле, только не такая кровожадная. В общем-то, все страсти одинаковы, если только они не хобби. В магазинах полно свежей рыбы, а старый Моисей Анатольевич любовно загружает в свой древний «фольксваген» снасть за снастью, поедет удить. И дрожание поплавка наполнит его душу невыносимым блаженством (он собирается уже больше часа, я иногда поглядываю на него из окна). Можно просто записывать слова, что я и делаю, а можно придумывать судьбы, имена, обстоятельства. Я чувствую, что в лучшем случае буду просто записывать слова.

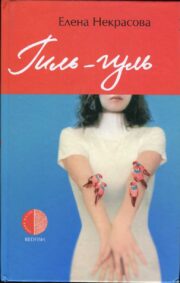
"Гиль-гуль" отзывы
Отзывы читателей о книге "Гиль-гуль". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Гиль-гуль" друзьям в соцсетях.