Когда девочка пришла к нему в первый раз, снова стояла ночь. Он сначала не видел ее, но мигом очнулся от неспокойного сна, в который время от времени погружался, почувствовав прохладу на лбу и губах. При этом прикосновении крик боли сухой щепкой разодрал его горло, но остался беззвучным. Влажность мокрой тряпицы обожгла его подобно лезвию ножа.
Чей-то призрачный силуэт опустился рядом с ним на песок.
— Воды. — С усилием он разлепил губы, произнося это слово.
— Нет, нельзя. — Мальчик моргнул несколько раз, зрение его прояснилось, и он увидел перед собой широкое гладкое личико маленькой девочки. — Тебе не разрешается пить. Пока нельзя. Сначала выздоравливаешь, потом пьешь.
Ее определенно не было в том караване, с которым он прибыл сюда, в этом он был уверен, но тоны голоса были знакомы, и он подумал, что девочка, должно быть, из тех же лесов у великой реки, что и он. Ресницы мальчика дрогнули, но глаза были слишком сухи для слез.
Теперь девочка осторожно, едва касаясь, обтирала его лицо своей тряпицей. Тщательно она отряхнула песок с его век, очистила ноздри, уши, но когда вновь попыталась прикоснуться к губам, он, насколько мог, отпрянул от нее, и невнятный стон, больше походивший на карканье вороны, чем на человеческий голос, вырвался у него из горла.
— Тс-с! — Она поднесла палец ко рту, и в темноте блеснули белки глаз. Затем наклонилась к его уху и прошептала: — Я еще приду к тебе.
Аккуратно подобрав складки просторной рубахи, девочка поднялась и пошла прочь. Мальчик провожал глазами удаляющийся в темноту маленький силуэт, и тепло ее дыхания еще согревало его щеку.
Когда она пришла снова, в руке у нее была маленькая бутылочка. Она присела рядом с ним на корточки и опять прижала губы к его уху.
— На этом масле готовят пищу. Оно не повредит тебе.
Крохотный пальчик, смоченный маслом, едва касаясь, мазнул по пересохшей верхней губе мальчика. Он испуганно вздрогнул, но крик сдержал.
После этого он ждал ее каждую ночь, и каждую ночь она приходила, смахивала песок с его лица и умащивала пересохший рот маслом. Упорно отказываясь дать ему воды — говорила, что, напившись, он не сумеет выздороветь, — девочка приносила маленькие ломтики то тыквы, то огурца, которые прятала в глубоких карманах своей рубахи. Эти ломтики она ухитрялась просовывать между его губами, и он старался удержать их там, смачивая и успокаивая распухший язык. Двое детей не разговаривали друг с другом, но иногда, окончив работу, девочка присаживалась около него и пела. Так как они отняли у него голос, он мог только молча слушать ее пение. А когда, задыхаясь от восторга, он поднимал глаза, то видел над собой горящие высоко в небе пустыни звезды, огромные и сияющие.
Как и ожидалось, мальчик оказался сильным и сумел выжить, и торговцы, выкопав его из песочной ямы, стали обращаться с ним лучше. Ему дали новый халат, зеленый с белой полоской, и кусок ткани, чтобы он мог соорудить на голове чалму. Потом объяснили, что теперь он не будет скован цепью с остальными, но поскачет впереди каравана, сидя на крупе верблюда позади вожака. Мальчик превратился в самый ценный товар. Его рана аккуратно затягивалась, и каналец, хоть и очень узкий поначалу, не зарос. При расставании копт дал ему тонкую полую трубочку из серебра и показал, как надо вводить ее внутрь.
— Захочешь помочиться, сунь ее вот так, видишь?
Настало время уезжать, и, готовясь к отъезду, мальчик однажды заметил торговцев, собиравших другую группу невольников около маленького караван-сарая. То была плотная толпа мужчин и женщин, кандалы на шеях и лодыжках сковывали их друг с другом. Эти люди жались к подветренной стене низкого глинобитного домишки, пытаясь спрятаться от буйного ветра, пока тот, мрачно воя, носился над песками. Мальчик заметил и узнал державшуюся с края маленькую фигурку девочки, которая спасала его, приходя по ночам.
— Как твое имя?
— Ли…
Она продолжала говорить, но ветер схватил ее слова и забросил далеко в пустыню. Заскрипела кожа седел, забренчали бубенцы, караван трогался в путь. Девочка прижала сложенные ладони к губам, пытаясь сообщить ему что-то.
— Ли… — кричала она навстречу ветру. — Лилэ.
В те минуты, когда жизнь Хассан-аги медленно ускользала от него в смерть, а он все не умирал, цепляясь за расползающуюся ткань памяти, первые лучи рассвета протянулись наконец над бухтой Золотой Рог. По другую ее сторону, за водами узкого залива, в той части города, которую назвали Пера и отдали чужеземцам и неверным, Джон Керью, главный повар английского посольства, сидел на стене, окружавшей здание и сад, и щелкал орехи.
Ночь была душной и знойной. И потому сейчас, устроившись верхом на стене, что было категорически запрещено послом, Керью стащил с себя рубашку, нарушая очередное правило, и с наслаждением подставил спину прохладе легкого предрассветного ветерка. От самой стены склон резко уходил вниз, являя взору прекрасную картину миндальных и абрикосовых рощ, а у кромки воды грудилось тесное скопище деревянных лодочных причалов, принадлежавших торговцам побогаче и иноземным эмиссарам.
Утренний крик муэдзинов прозвучал более получаса назад, но ни на улицах города, ни на водах бухты не заметно было никакого оживления. Легкий туман, окрасивший зарю в едва различимый бледно-розовый цвет (который, как узнал Керью, был присущ не только стамбульскому рассвету, но и варенью из лепестков роз), все еще укрывал воды и берег за ними. Лишь одинокий маленький каик, узкая гребная лодка Босфора, рассекая туман, медленно продвигался в сторону Перы. До Керью доносились плеск воды и скрип весел да крики круживших над каиком чаек, чьи грудки поблескивали в рассветных лучах белым и золотым.
Неожиданно, хоть Джон не отрывал от прекрасной картины глаз, туман пополз вверх, открывая противоположный берег. Зачарованный город с дворцом султана, с кипарисами, словно вырезанными из черной плотной бумаги, с куполами, минаретами и башнями, город розовый и золотой затрепетал над туманными водами, будто на невидимых нитях был подвешен над ними сказочными джиннами.
— Рано встаешь, Керью, — окликнули его снизу, со стороны сада, — или ты вовсе не спал?
— Приветствую вас, хозяин, — отвечал Джон Керью, беззаботно наклоняясь со стены к донесшемуся голосу и салютуя в том направлении. Щелкать орехи он при этом не перестал.
Пол Пиндар, секретарь сэра Генри Лелло, посла Британской империи, едва удержал уже повисший на кончике языка упрек, лишь один из многих, но почел за лучшее промолчать. Если он и научился чему-либо за долгие годы знакомства с Керью, то только тому, что в общении с этим человеком метод упреков не годится, факт, в котором он до сих пор не сумел убедить посла. И вряд ли когда-либо преуспеет в этом. Вместо замечания он, бросив взгляд на еще спящий дом, быстро взобрался на стену сам.
— Хотите орехов?
Если Керью и заметил недовольно вздернутую бровь Пиндара, то не подал виду.
Тот, в свою очередь, задумчиво оглядел своего строптивого слугу: неряшливая копна длинных, достающих до плеч волос; тонкий шрам на лице, результат одной кухонной драки, сбегал по скуле от уха к углу рта; гибкое, мускулистое и отлично скроенное тело, которое, казалось, дышит затаенной энергией, как, бывает, дышит ею натянутая тетива лука. Он не раз видел Керью за работой и всегда удивлялся точности его движений даже в самом тесном и жарком пространстве.
Сейчас эти двое мужчин сидели рядом, наслаждаясь дружелюбным молчанием, отточенным многими годами их странной дружбы.
— Что это за орехи? — спросил наконец Пол.
— Здесь их называют фисташки. Взгляните, какой удивительно зеленый цвет! — внезапно воскликнул Керью и рассмеялся. — Встречали ли вы когда-нибудь такую красоту в обычном орехе?
— Если тебя увидит здесь господин посол, после того как он категорически…
— Лелло может пойти и повеситься.
— Боюсь, что из вас двоих тебе придется повеситься первым, мой бедный друг, — невозмутимо парировал Пол. — Я всегда это утверждал.
— Он говорит, чтобы я больше не приближался к плите. По крайней мере, в его доме. Кухню поручили Кутберту Буллу, этому жирному отродью, страдающему плоскостопием, этому огромному павиану, который толком даже боснийской капусты отварить не умеет.
— Ну… — Пол взял еще один орех. — В этом ты должен винить только самого себя.
— Вам известно, как прозвали нашего великого посла?
— Нет, — ответил Пол, — но не сомневаюсь, что ты мне сейчас сообщишь это.
— Его прозвали Старой Девкой.
Пол промолчал.
— Хотите, я вам объясню почему?
— Что за нужда? Я могу и сам догадаться.
— Вы смеетесь, секретарь Пиндар.
— Я? Я, самый смиренный из слуг его высокочтимого превосходительства?
— Да, вы. Вы действительно из его слуг, но если б у него были мозги, он бы давно увидел, что в вас нет ни капли смиренности.
— А о смиренности тебе известно абсолютно все, полагаю.
— Напротив. Об этом предмете, как вы хорошо знаете, я не имею ни малейшего понятия, как и о многом другом, чего не положишь в пирог. Зато мне многое известно о слугах.
— Не переоценивай себя, Керью, как говаривал мой отец все те годы, что ты находился у него на службе. Если, конечно, можно назвать службой твои театральные выходки, в чем лично я глубоко сомневаюсь. — Теперь голос старшего звучал мягче. — Наш уважаемый посол совершенно прав. По крайней мере, в этом случае.
— Ну, ваш отец любил меня. — Ничуть не убежденный, Керью, ловко зажав орех в ладони, раскрыл его одним щелчком. — Если Лелло не вернет меня на кухню, он может пойти и повеситься. Вы видели его в то утро, когда Томас Даллем и его люди открыли наконец огромный ящик и обнаружили, что драгоценный подарок полностью поломан и покрыт плесенью? Наш Томас — для ланкаширца он довольно сносно справляется с речью, между прочим, — сказал мне, и это было исключительно верное наблюдение, что сэр Генри выглядел так, будто тужится, сидя на стульчаке.

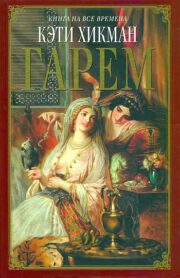
"Гарем" отзывы
Отзывы читателей о книге "Гарем". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Гарем" друзьям в соцсетях.