Благодаря ей я скрупулезно рифмую бесполезные терзания и все чаще разглядываю себя в зеркале. При этом я понимаю, что во мне что-то не так, что мне давно уже пора выйти из этой снятой моими родителями квартиры вперед к неизвестному месту… и, сразу постарев на много лет, ощутить себя хоть немного собой. Однако я все продолжаю писать эти странные и непонятные, как жизнь, стихи.
Сейчас, спустя уже множество лет, я мог бы привести в пример одно из этих стихотворений, но именно сейчас это было бы так же напрасно и бессмысленно, как прежде было стыдно… вместе с тем я могу привести отдельные, наиболее часто встречающиеся в моих, как, впрочем, и в некоторых чужих стихах, слова.
Например, слово «тоска» (иногда «мучение», «хандра» и т. п.) выражает собой состояние молодого человека, который хочет иметь женщину, но в силу разных обстоятельств не имеет ее. Хотя опять-таки может ее иметь! Далее, слово «мечта» (иногда «идеал», «желание» и т. п.), не что иное, как связь больного воображения поэта с женским началом, с поиском этого начала во всех попадающихся на глаза женщинах.
Однако, Фея?! – Она все-таки была, и не во сне, а в реальности… И я действительно мечтал о ней… я писал не стихи, а желания, которые я о своего же лицемерного бессилия воплощал в один связующий образ обволакивающих меня слов. Я как сумасшедший говорил сам с собою и бессмысленно заносил свое невнятное бормотание в тетрадь… Фея, свет, голубка, притяжение…
И опять волны необъяснимой страсти с вожделением. Даже во время учебы можно забыться и ничего не видеть вокруг… Однако я хочу постареть… Ведь моя Фея старше меня на три года. Конечно, три года – это не Бог весть что, но ведь ее муж, ее алкоголик Темдеряков старше меня почти на 10 лет!
А это уже слишком! И пусть я при случае вдруг смогу набить ему морду, но разве это что-то изменит?! Разве я стану от этого старше или всемогущественней по сравнению с этими людьми? Ну, пусть Темдеряков пьет, но он работает, и у него есть свой кусок хлеба, свой заработок, и по какому-то праву он может просто ткнуть мне в лицо как малозначительному, неясному, но ощутимому щенку, который все еще прячется и повисает на шее у своих родителей!
Вот так и появляются эти дурацкие комплексы той самой неполноценности, из-за которой многие люди или плохо кончают, или сходят с ума. Один мой сокурсник от этого даже записался в баптисты, а потом был вынужден бросить университет, ибо его духовный отец или наставник, в общем, какой-то там гуру, запретил ему становиться умней, чем он есть. И теперь этот мой бывший сокурсник ходит с огромным крестом и громкоговорителем по улицам, читая молитвы, и зовет всех в Божье царство.
Меня же он почти не замечает, или старается не замечать – даже не знаешь, что и подумать. В общем, был человек и пропал, растворился в какой-то идее.
Так вот и я стал отчаянно думать и сопротивляться собственной наивности и молодости, как будто это было не благом для меня, а непосильным ярмом. Вот как я захотел одряхлеть, даже самому не верится! И стал я тогда «духовно» побираться, т. е. общаться со всеми подряд, и узнавать, как этот самый опыт вместе со старостью наступает, поскольку теперь только через это надумал заполучить свою Фею!
И был среди нас один очень старый студент, такой старый, что его даже в студенты не хотели принимать, но он все же схитрил и отнял у себя одну, другую парочку лет, и звали его Федей, только он не любил, когда его так звали, и он всем говорил: «Зовите меня просто Федором Аристарховичем», – но его все звали Федькой, и он в конце концов смирился с этим, но свое умственное старческое превосходство все равно при случае подчеркивал, и вот я и обратился к нему за советом, и он мне его дал, после того, конечно, как я сводил его в самый дорогой ресторан…
И вот он напился, как свинья, потом схватил меня за шиворот и шепнул мне на ухо: «Тебе бы, сопляку, в каких-нибудь экстремальных условиях поработать надо!»
– Это как? – удивился я.
– Ну, сторожем в морге или санитаром на «скорой помощи», одним словом, чужую смерть повидать надо! Вот тогда ты и состаришься враз! А сейчас ты так, говно на палочке!
Помню, слезы выступили у меня тогда на глазах, и в морду ему хотел дать. И даже чего-то еще такое натворить, чтоб и самому тошно стало, да сдержался, а его совет, как ни странно, на веру себе так и принял, что сразу решил во что бы то ни стало пойти работать санитаром на «скорую помощь». Ибо спасать живых более благородно, чем глядеть на мертвых, хотя потом и на мертвых поглядеть пришлось изрядно.
Когда человек верит во что-то, он действительно становится таким, как ему подсказывает его собственная вера. Не хочу лгать, но работа на скорой была для меня и адом, и раем одновременно, ибо любая тварь корчится в собственном теле и любой твари от любой нелепой случайности позволено покинуть этот мир, как, впрочем, и воскреснуть, т. е. вернуться обратно в свое прежнее состояние, а мне, простому смертному, довелось множество раз наблюдать отходняк, и всякий раз думалось мне, что сейчас, вот-вот что-то этот умирающий и скажет очень важное, напоследок, и выразит перед смертью что-то такое, что, может быть, он всю свою жизнь добивался сказать, ан, нет, никто ничего так и не сказал и умер просто так, как какую-нибудь обычную гадость совершил, и выходило по натуре, что мы все такие ничтожные и такие несчастные твари, даже самому порой страшно становилось.
И пусть я не знал никогда этих людей, уж перед смертью-то не смущаются, – ее или боятся, или со спокойной улыбкой принимают, или, на худой конец, так боль в себе пересиливают, что ни до чего им, грешным, и дела никакого нет. А вместе с тем, увидел я и воочию убедился, что все эти болезни и заразы всякие из души берутся, из пустоты ее темной и бездеятельной, когда у человека уже совсем руки опускаются, и он сам не живет, а доживает по инерции или по еще какой-то необъяснимой оплошности, но так или иначе, а все они сами себя боятся и что-то лишнее наговаривают, а потом и муки их душевные в телесные перерождаются, а что до болезней, так у них своя природа имеется, более простая и научная, где уже все понимание на костях и на мышцах держится!
Ну, а что касается тайны, то абсолютное большинство ее просто игнорирует, нарочито и заумственно вздыхая над всякими детскими и божьими сказками, иногда даже и совсем позабывая, что их личная жизнь, в сущности, и есть еще одна, чудом рожденная сказка. Отсюда и Дух Святой, и непорочное зачатие Марии, и хождение Иисуса по воде, и многое другое, отчего глупому человеку очень смешно становится в то время, как умные плачут. Недаром же Соломон сказал, что от слишком большой мудрости слишком много печали?!
Я устроился на «скорую» в конце сентября. Главный врач Лазарь Соломонович, кстати, очень умный и хитрый еврей, довольно быстро, но все-таки пристально взглянул на меня, выслушал мою просьбу, и тут же кивнув головою, бросил только одно слово: «Подходишь!»
Этой фразы, заключенной в одном всего слове, было достаточно, чтобы обрадовать меня на долгое время. Никто еще не оценивал меня так просто и так по-человечески! Это уже потом, в процессе работы я ощутил, что мгновение может стоить жизни, а посему мне мои новые коллеги в своем большинстве казались порой в критических ситуациях слишком холодными и равнодушными, в то время как ими на самом деле владела чувственная машинальность, и они делали все, чтобы спасти человека. Я не хочу их всех идеализировать, но по себе знаю, что огромное нежелание видеть чужую смерть двигало нами иногда до абсурда. Помню холодную полночь, когда врач, фельдшер и я – санитар выехали по вызову на самоубийство.
Бедолага выбросился с пятого этажа вниз, на асфальт, и в голове у него была такая дыра, что даже не профессионалу стало бы ясно, что он не жилец. Однако мы, как заведенные механические куклы, делали ему повязку, накладывали на переломы шины и вообще делали все, как будто пытались вызволить с того света все еще дышавший каким-то чудом труп. И даже привезли в реанимацию, где рассмешили всех реаниматоров до колик.
Ибо эти живые человеческие останки действительно слишком цинично поглядывали на всех оскалом быстро надвигающейся смерти. Можете себе представить, когда вместо мыльных пузырей кровавые выдуваются одновременно изо рта, из носа и ушей, и все это еще как-то шевелится, дышит! Вот в таких ночных видениях я и закалял свой робкий дух школяра!
Даже всегда пьяный Темдеряков заметил явное изменение моей наружности.
– Что-то ты какой-то не такой, – то ли с удивлением, то ли с испугом поглядывал он в мои глаза.
Я же, благодушно усмехаясь, проходил мимо, хотя в душе у меня скребли кошки и я думал только о Фее…
Она была чужой реальностью и моей мечтой, она жила во мен и как бы сопротивлялась своему нахождению в моих мыслях… я трогал ее волосы, ее набухшие соски еще не рожавшей женщины, я раздвигал ей ноги и вводил в нее свое земное сущее… Это был сон…
Я стонал и мучился по ночам, чувствуя, что совсем рядом, за стеной, она, бедная и несчастная, также мучается и страдает… И тогда я наполнял свои глаза слезами и долго плакал, как побитая собака…
Можно сказать, что в этих наивных мечтаниях и снах я выплакивал свое последнее детство… Первая любовь… последний всплеск несозревшего разума… Потом радость и жалость по ушедшему… Время уже никому не нужного разума…
Утро застает меня врасплох, как прошлое в настоящем… Я дежурю через ночь, и поэтому все мои ночи перепутаны, иногда я с удовольствием обнаруживаю себя проснувшимся в машине или на станции «скорой помощи» в комнате отдыха или в этой снимаемой мною квартире.
В любом случае жизнь спешит неумолимо, с каждой новой секундой она все сильнее стучится у меня в висках, с каждой новой смертью я все явственнее вижу ее необозримые горизонты… И мне начинает казаться, что наш мир ужасно мал для настоящей любви.
Этим утром я просыпаюсь в квартире, я вспоминаю, как я этой ночью представлял себе в постели Фею, как я мучился и стонал, ощущая вместо прохладного воздуха ее горячее тело… Я вижу изгрызенный мною за ночь краешек подушки… И мне становится стыдно, ибо я тут же вспоминаю, что в своих видениях я кусал ее соски. Я пил ее молоко, и оно было горьким, как молоко лошади… А сам я был таким маленьким…

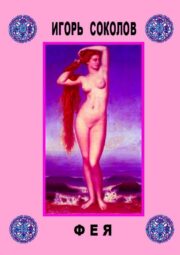
"Фея" отзывы
Отзывы читателей о книге "Фея". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Фея" друзьям в соцсетях.