– Это стихи? – заинтересовалась девушка.
– Нет, это просто мысли, – махнул рукой понурый Бейс.
Наш долг приближался как наваждение…
Как превозмогая тоску, пить и вешаться на шею всякому или одной и той же, а спустя лишь мгновенье вдруг осознать, что ты – продолжение сна.
Это будет думать о тебе, если ты, выставляя себя напоказ, вдруг теряешь смысл и вымолвить слова не можешь, в котором давным-давно застыла немая Вечность…
Музыка включена, поток безудержной водки несется в открытую пасть…
Шатаясь меж тел возбужденных снова, я боль замечаю в каждом желтеющем снимке…
Где-то обрывки кроватей вдоль истерзанных женщин свое имя находят.
Где-то люди как буквы страшно все одиноки и вместе какое-то слово без конца мне произносят…
Шум. Пустота. Грязь Вселенной. Бульканье черной клоаки.
Писк мышей, вой кошачий, дальше чуть слышные звуки. Бедра, лежащие в камне, Ленина лоб отверзают. Глупо таится Всевышний.
Закон безысходной тоски – выпить и просто забыться.
Вождя – вспоминая – про детство, в темный рай провожая.
Жужжание мух возле кучки, наложенной мне добрым дядей.
Я помню, еще дитятей носил его профиль на сердце.
Сараи. Подвалы и Ямы, как много их в нашей отчизне, в них спят изможденные бомжи, любители прошлого века, разбросанных старых портфелей, бумаг, на которых имя само собой исчезло, ушло в улетающий ветер.
Мне Бейс повторял эти чащи сквозь зубы и водку на ухо.
Я плакал, как будто влюбленный, теряясь в безумной вершине мной порожденного века.
Бейс, мой лунатик, калека, коллега по мусорным ведрам, по бедрам и ягодицам, когда в беспределье тащиться грустно и тянутся лица змею подобной отраве.
В безусых устах младенца жуткая область познаний, где всякий камушек гранью страсти людей отражает в узорах простертых ладоней, пальцев, наметивших вход члену живых академий, истину зарывших в компосте или в каком-то наросте давно отшумевшего мозга.
Как же это не просто – слушать тоскливого Бейса.
Теперь все по очереди стерегли меня, чтобы я не убежал куда-нибудь, успокаивать свою неуемную совесть.
Любезный Соловейчик хранил меня от скорби громкими призывами отдыхать и веселиться…
Гостеприимная Александра раздевалась для меня и вытягивала тело, словно гусеница.
Гроза хлопала в ладоши и подбрасывала надо мной одного за другим иностранцев.
Любезная Пищуха читает нараспев головокружительного Овидия, а случайная странница Дань целует меня куда попало, сощуривая сладострастные глазки и нервно пожимая окончания моих дрожащих пальчиков.
И лишь один Бейс невозмутимо ощупывает свой огромный нос и при этом нравоучительно советует всем презирать себя.
Ужасно глупо чувствовать себя поврежденным в уме. Глаза Бейса, словно окна, отражают свет, и все мучительно растворяется в нем. Лань все еще пытается продлить со мной удовольствие и хватает меня за самые неожиданные места подозрительного тела.
Тело постепенно зовет иметь себя в ней.
В этом месте я должен немного остановиться, чтобы прислушаться к разуму.
Все больны возможностью что-то иметь. Но для чего? И в желудке, и в голове, и в чреслах, и в Космосе голосит одна и та же возвышено-низменная жажда…
Какая трудная задача – прожечь себя насквозь, увидеть свое ничтожество и тут же плюнуть на все, уплывая в звезды единственного царства. Бейс незаметно делает мне знаки, и мы исчезаем.
В каком бы каземате ты не жил, всегда полезно иметь свой угол – место – пространство – пустоту: мы с Бейсом имели совершенно отдельную яму, куда сваливались, уединиться и побыть с собой.
Из ямы хорошо глядеть на небо и думать о вечном… В любой пьяной праздности, где светится мысль, мы с Бейсом осторожно вытаскиваем из себя постороннюю глупость и начинаем выбирать из тьмы носящихся в воздухе идей какую-то одну, все время убегающую в Непознаваемое.
– Избавь меня Бог все таки ухватить эту идею, – говорит мне чрезвычайно задумчивый Бейс.
– Почему? – удивляюсь я.
– Потому что в открытии всегда спрятан конец нашего начала…
Бейс нахально отнимает у меня мою мысль и так же нахально кормит ею меня. Худо знать Бейса со всех сторон, ведь он если и обманывает меня, то с достоинством, а чертыхается исключительно по случаю, увеличивая длину и без того вытянутого языка.
Мое прошлое опять бессмысленно лепечет себя.
Я знал одного доброго человека, который все время представлял себя злодеем, чтобы никому не нравиться. Еще у него была лютая неприязнь к людям, которые имели несчастье хвалить себя.
И как я нашел свое сходство с ним.
Лучший свидетель тому – Бейс, правда – он много поддавал в то время, но это не лишило его памяти.
Если в нем что-то испортилось, то это легко исправить…
Вообще, самое трудное – показывать себя, играя роль какого-то свихнувшегося мистика, но еще безобразнее выражать свое отсутствующее мнение, хотя что может быть лучше, чем отсутствовать здесь…
Жизнь не должна быть собой, как Бейс моим прошлым, Любовь – жалостью, поступок – принципом, и так далее.
Ее звали Нина, и она созидала мое несчастие.
Бейс был ее ухажером и я с ним дрался в любой самонадеянной форме, вымучивая смех невидимых приведений. Иногда мы где-нибудь закрывались одни, и Нина обнажалась, размахивая собой.
Глоток водки, поцелуй и ты – ничто. Гигантский смысл животных побуждений. Вовсю метет ХХ век…
Какой же все же жалкий человек придавлен голым телом к телу.
О, Бейс! Прекрасный мечтатель, красота Нины губит нас одинаково.
Властно разжигая страсть… Толпы… Полночь неведения в подозрительной темноте… Как строгий любовник, я тщетно пытаюсь отогнать тебя.
Развращенная Нина нежна как мотылек.
– Для обоих места хватит, – говорят ее глаза, но сам язык покорен только единственному числу…
Не отсюда ли твое пьянство, Бейс? Не отсюда ли мое желание отсутствовать?
Нина – некая яма, где от могучих фаллосов висят обрывки смутных изваяний.
Временами Бейс исходит стихами, зарываясь без меня в ее нежое личико.
Даже самая отчаянная грусть выражается у него смехом.
Шут с бесконечным отростком, он полон был голосов о той же норе бесконечной. И рвал, и метал он, плывя по откосу дрожащего члена.
И выражением лица пытался всю тьму уничтожить.
Это был трепет ужаса сексопатолога, ибо ничего духовного в этом не было…
Возбужденный от природы как и от алкоголя, Бейс очень редко думал о соразмерности своего будущего и настоящего.
И вообще, он был везде, только не в своих истинных намерениях.
Такие люди легко угадывают состояние своих собеседников и легко соответствуют ему, как впрочем, тьма – свету, зло – добру.
Необходимость присутствовать через отрицание тоже ведет к обратному утверждению себя через другого.
Так, отрицая меня, Бейс через Нину, утверждал обратное, т. е. мое влечение и страсть, получившую одну и ту же жизнь в разных ипостасях, (т. е. в нас).
Нина соединила нас через собственное отрицание, дальше наступило саморазрушение. Бейс отринул себя, как и я.
Проклятое лживое тело стало подоплекой наших погружений в такой же обманчивый разум… Так звучали мои мысли, когда Бейс багровел от выпитой водки в убого-жалком жилище Соловейчика.
Пара наивных детей – мы сбежали оттуда, как подарочек с жертвой, как мгновение с вечностью…
Наша Нина – наш призрак – наш путеводитель, наша бездна. Бездомные, мы открываем дверь, ее дверь, и делимся на стадо невинных мечтателей…
Она учила жить нас любовью, а мы – ненавидеть себя…
– Войди же в меня, во мне нет тревоги, – шептала она на ухо то мне, то Бейсу.
Островки вожделеющей страсти, мы себя разложили как яства, на ее демонический пламень.
Познать женщину – это маленький и полупрозрачный островок меланхолии… поймать одинокую обезьяну и одолеть с ее близостью все отчаяние проклятого лунатика…
Бейс всегда любил ходить по крышам и радовать других своим отсутствием…
Там, при звездах и обязательной разлучнице Луне, только одна Нина могла слышать его Арию внезапной любви… Любви, состоящей из Смерти…
Невинный мальчик Бейс верил в Бессмертие и боялся, что пошлые разговоры окажутся правдой, но после он одел маску и стал настойчиво заставлять меня влюбляться в дымящееся тело.
Гибкая, как пантера, и опасно образованная в этих делах Нина иногда забывалась до такого сумасшествия, что летела с Бейсом вниз по крыше, едва успевая поймать леденящий карниз.
Бейс удачно ловил ветки деревьев, обламывая их и подчиняя своему медлительному падению.
Потом наступала очередь Нины быстро разжимать свои пальцы и лететь в стремительные объятия Бейса… Они валились в лужу и громко смеялись, желая привлечь к себе полусонных прохожих…
Я стоял за их спиной, как Ангел, зная, что очень скоро Бейс растворится в задумчивых сумерках и его место займу я, и как ни в чем ни бывало, расскажу сумасшедшей Нине свои невидимые и страшные сны.
Вот она улыбается. Бейс исчезает, потом она берет меня за руку, и мы идем как два старых друга в темноту… в Абсолютную Неизвестность…
Мой падший ангел, да хранит меня во сне, как всех несчастных и ушедших в Вечность тварей…
Маша
У Цикенбаума была служанка, какая-то пэтэушница из деревни… Когда он днем уходил на работу, она курила его сигары и зачем-то вырывала страницы из самых дорогих книг…
Самое интересное, что она никогда ни в чем не признавалась, как видно, боясь за свое место…
Арнольд Давыдович уставится на нее своим серьезным научным взглядом, а толку никакого…
– Что за скотская привычка, Маша, рвать книги?!
– Да, не рвала я, Арнольд Давыдович! – ответит она, нахально мигая накрашенными глазками…
Сам Арнольд Давыдович покраснеет и тут же выйдет из кабинета… Ох, и любил же он ее… Как только в ванную она зайдет, Арнольд Давыдович тут же на цьшочках, бегом к дырке в стене, прильнет, застынет как истукан и почти не дышит, совсем как неживой…

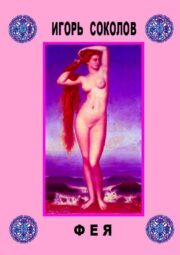
"Фея" отзывы
Отзывы читателей о книге "Фея". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Фея" друзьям в соцсетях.