И еще возникает попутно один закономерный вопрос: как он может отделить случайное от бессознательного, а людей – от грешников?!
Цикенбаум пытается найти ключ к очевидности спасения некоторых людей самим Арравой, т. к. он иногда, взяв на себя обязанность довести их до назначенной цели, вдруг бросает их на полпути, что, в общем-то, и смогло донести до нас сам образ Арравы…
Люди, оставшиеся в живых и испытавшие ужас перевоплощения в собственные тени, шли за ним вроде бы и в полном сознании и целиком готовые на Смерть…
Однако в самую последнюю минуту Аррава их бросал, мгновенно исчезая в своих потусторонних мирах.
Здесь очень ясно прослеживается смысл его поступков, ибо в одних случаях Аррава является несколько раз одному и тому же человеку, добиваясь конечного результата постепенно, т. е. через осознанную казнь субъекта собой, в других случаях он вообще может возникнуть лишь раз и больше никогда не появляться, оставляя человека со своими тревожными раздумьями до самой Смерти…
Здесь возникает тоже что-то вроде вопроса и ответа: а не достигает ли таким путем Аррава очищения всякого человека через свое же возникновение и последующее исчезновение в его разуме…
Ведь след остается на всю жизнь…
Однажды Цикенбаум беседовал с женщиной, убившей своего мужа, и выяснил, что Аррава приходил к ней два раза и больше никогда уже не появлялся, и она прожила после этого двенадцать лет…
Для чего же тогда он оставил ее на земле, для чего он отдал ей эти годы, уж не для того ли, чтобы она еще раз пережила то же самое и очистилась до конца?!
– Это все из книги того самого Цикенбаума, – прервал мой рассказ Федор Аристархович.
– Можно сказать, что так, – уклончиво ответил я, – просто то, что я читал и что мне потом приснилось, так перемешалось, что связалось в одно целое…
– Ну, а что дальше?! – Федор Аристархович опять извинился за то, что прервал меня.
– А это говорит о том, что Аррава пробуждает – включает механизм самоочищения человека собой, а если такого механизма нет или Аррава его включить вдруг не может, он подводит его к этому уже другим путем – через его собственную Смерть…
«Следовательно, на земле есть такие пути самореализации, – пишет Цикенбаум, – которые приводят нас к познанию самих себя через потусторонние предметы и образы и даже просто смутные очертания вроде того же самого Арравы…»
Я прекращаю свой рассказ об Арраве, и внимательно приглядываюсь к Федору Аристарховичу.
– Ну, как могли в разное время и разных точках земли, реальности и сна видеть его, пусть даже и в ночной темноте, и в собственных болезнях самые разные люди?! – спрашивает меня Федор Аристархович.
Я знаю, что это знает Цикенбаум, но молчу и улыбаюсь…
Достаточно уже и того, что я рассказал об Арраве Федору Аристарховичу.
Только с помощью Арравы я отвлек его внимание от своей жизни и был этому рад, ибо теперь он задавал себе вопросы про новое мифологическое существо, которое легко возникло вместе во мне с загадочным Цикенбаумом.
Федор Аристархович еще долгое время идет за мной и задает самые несуразные вопросы, я бы сказал – чудовищно-абсурдные вопросы…
Из-за этого я делаю вывод о том, что своим безумием можно легко заразить любого человека, было бы только желание, а образы всегда найдутся. Особенно, если ты пишешь стихи. Если ты влюблен и веришь в существующее, как и во всякую тайну Вселенной.
А впереди, где-то далеко за убегающей толпою, за отражением городских тротуаров с блестящими крышами домов скрывается образ моей волшебной Феи…
В магических кольцах, с улыбкою тайной… С лица моего тень твоя нисходила. Так грустно глядел я вперед и в молчанье предчувствовал душу в небесном сиянье…
У «Ты» здесь есть всякое «Я»
И всюду в нас брезжит туманов прощальность
И тайна встает зябким взором лица
И бездна во мне твоим изваяньем
Живет и не знает чувствам конца.
Фея встречает меня своей постоянной улыбкой.
С тех пор, как она поселилась у меня, я словно зажег ее каким-то необыкновенным светом…
Так землю всю волшебным светом вмиг освещает бесконечный океан…
Мы, как дети, воспламеняем друг друга наивной чистотой еще неоткрывшихся ласк…
Мы хотим войти в любое око мирозданья, своею верою в чистого зверя, и все же за всяким отсутствующим здесь ликом или чувством ощущается непроходимая даль Вселенной, и мы вместе тонем в ней, уже не пытаясь отгородиться друг от друга едва проверяемыми триумфами…
Ибо даже если человек любит другого человека, то он должен подать знак, означающий, что он тоже в нем существует, хотя бы и столь непредсказуемым образом.
Фея снова садится ко мне на колени, и мы снова разучиваем Акафист Пресвятой Богородице…
Едва соприкасаясь телами, мы образуем единое целое… сливаясь голосами в молитву… И только Аристотель заметно нервничает и мурлычет возле нас, взирая на нашу близость с тоской одинокого холостяка…
Нам, естественно, его жаль, но мы не можем с Феей тотчас превратиться в каких-то облезлых кошек, чтобы усмирить непостоянство скучающего зверя…
Любой ход мыслей был обречен на встречу с невидимым Богом.
Однако даже в этой сиюминутной одинаковости всех рождающихся противоречий сквозит окаянная тоска, с какой любой грешный житель другому все чувства прощает.
Так вот и ощущается некая безысходность любых человеческих поступков. Однако и она была всего лишь мгновенной потребностью всякого мудрого человека…
А в это время я ее вообще не замечал…
Моя Фея заслонила собой весь мир. Ее глаза как светящиеся звездочки под полумесяцами начертанных Богом бровей, разжигали во мне пламя единственной вечной Любви.
Такое бывает лишь раз, когда весь мир со своей суетой, с мучительной тоской и безысходностью, с тревожными глазами, летающими по траектории замкнутого круга или наглухо закрытого квадрата… остается где-то позади, в темноте абсолютного забвения, в тот миг, когда Фея сидит у меня на коленях и мы постепенно становимся с нею одним существом…
Любая философия, идея, политика, любое художество, оцениваемое в миллиард долларов, всякое золото, хранимое в сейфах с алмазами, не стоят того святого часа, когда два понимающих существа так искренне и нежно… чутко любят… Когда даже и представить невозможно весь мир… без Феи.
Все связано лишь с ней. Она – центр моей Вселенной… Она – моя реликвия… мое блаженство, божество…
Темдеряков становился все ужаснее.
Он перестал пить, но сделался от этого еще более безумным и озлобленным…
Долгими ночами он бродил под нашими окнами как одинокий и неприкаянный зверь… Он как дьявол, выходящий без числа… Впивающийся черными глазами…
В мир, где раздвигает тени мгла и зажигает смысл предсмертными словами.
Впрочем, он не зажигал смысл, а уничтожал его всей свой жизнью… Он как тот упрямый старик, которому ужасно надоело и наскучило жить, пытался уйти из этого мира любым безболезненным образом… Я опять пришел к нему…
И увидел его кривую и все отталкивающую от себя усмешку.
– Ну, проходи, – сказал он мне таким отрешенным голосом, словно он уже был где-то там, на небесах.
Еще более скверный бардак застыл в его вещах, разбросанных по квартире. Постоянно летающая моль и полчища бегающих тараканов еще резче и фатальнее подчеркивали в Темдерякове отсутствие всяко смысла.
– Ну что, горло прошло?! – спросил он меня как-то глухо и безучастно.
В уме я даже представил себе невидимый пут его голоса, от губ до потолка, где в углу, в пыльной паутине он обрывался, не находя себе никакого подходящего простора.
– Ну, что ты как шпион все ходишь и высматриваешь?! – он неожиданно обезумел и схватил меня за ворот рубашки, и потянул на себя.
– Что ты так смотришь на меня, – как-то странно и совсем по сумасшедшему засмеялся он, – ты думаешь, я не знаю, куда от меня подевалась Танька?! Куда она спряталась?! Не! Я знаю! – Темдеряков поднял вверх свой указательный палец, словно искал подтверждения собственным словам.
Потом он снова о чем-то задумался и замолчал, и так и остался стоять со своим указательным пальцем.
Боже, лучше бы он пил и ни о чем не думал!
Может, тогда все случилось бы иначе! Впрочем, у нашего бытия нет никакого плана, никакого спасительного средства…
Это мы все еще пытаемся его в какие-то абсолютно бессмысленные формулы, и все расставить вроде как по своим местам, хотя ни у одного человека нет на этой грешной земле своего светлого и самого вечного места.
Если только могила, но и она ничего не открывает нашему взору, кроме праха и червей, кроме крестов и надгробных плит, и все так же таинственно молчащего над нами неба со всем своим светом и тьмою.
Я вышел от Темдерякова, как из преисподней.
Все во мне гудело, кипело, кишело и волновалось…
Это было предчувствие, предчувствие чего-то ужасного и невообразимого… С этого дня я весь был сам не свой…
Я не знал, что мне делать, и еще сильнее тревожился за свою Фею. Словно какие-то невидимые узы связывали и окутывали Фею с Темдеряковым.
Это было, но было против всякого смысла…
Он то ли притворялся, прикидывался таким безумным, то ли был на самом деле.
Возможно в душе он смеялся надо мной, показывая свои страшные зубы… Возможно, он чувствовал мой страх и выслеживал мои тайные мысли…
Возможно, он знал, что на мне горит шапка и что Фея у меня… Или даже только предполагал, но уже одно это вело его дальше на пути к намеченной цели.
Еще я знал, что мне не надо было сюда приходить, но я все равно шел, словно кто-то невидимый вел меня за руку, как мой собственный мифологический Аррава, так жертва вдруг торопится на казнь, желая прекратить свое мученье…
Так всякий смысл торопится украсть… в душе как каплю наслажденья… Так в мимолетных виденьях светится тихая грусть… Мы пытаемся вызвать свою бесконечность…

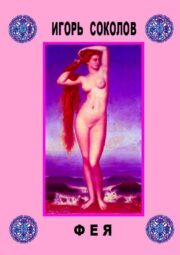
"Фея" отзывы
Отзывы читателей о книге "Фея". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Фея" друзьям в соцсетях.