Но вежливость требовала, чтобы он повиновался. Он отворил указанную ему дверь и вошел в маленькую залу.
Анита находилась уже там, сидя за работой. Любовь ли, надежда ли украшала ее, но в этот вечер она была прекраснее, чем обычно.
При виде ее Даниэло Четтини ощутил почти то же впечатление, которое испытывают, выйдя из мрака на свет: он был ослеплен.
— Извините, — приблизясь к ней, сказал он, — вы не…
— Сестра Катарины?.. Да, синьор.
— Синьора Анита?
— Да, синьор.
Сестра Катарины была восхитительна! В сто раз лучше старшей. Он сел рядом с нею.
— Вы позволите?
— С удовольствием.
— Ваша сестра почувствовала себя немного нездоровой, кажется, с недавнего времени, синьора?
Анита покраснела, она не умела лгать.
— Кажется, синьор.
— Она предложила мне подождать ее здесь несколько минут… и если это вас не обеспокоит…
— О, нисколько!..
Она творила, продолжая шить и не подымая глаз.
— Вы вышиваете, как фея!..
— Нужно же работать, синьор.
— Вы живете с вашей сестрой?
— Я всегда жила с нею.
— Но… у вас нет, как у нее, страсти к театру?..
— Нет.
— Вы не поете?
— О нет!.. Но я тоже немного музыкантша…
— А!.. Вы играете на фортепиано?..
— Немного.
— О, я с ума схожу от музыки!.. Поэтому-то…
Даниэло хотел было сказать: «Я желал сделаться любовником Габриэли», но вовремя остановился и добавил:
— Поэтому-то я считал за честь быть представленным одной из наших величайших певиц. — И продолжал, указывая на фортепиано: — Синьора, если вы удостоите, в ожидании вашей сестры…
Не заставляя просить себя, Анита села за инструмент.
Странное дело, эта девочка, которая не могла спеть самой простой арии, обладала, как музыкантша, истинным талантом. Она выучилась сама, одна, и тайком на нотной грамоте училась играть на фортепиано; она не была ученой пианисткой, но у нее был слух, ее исполнение не изумляло, а восхищало. Она сыграла сонату Себастьяна Баха, потом неаполитанскую тарантеллу, которую заучила, слышав ее раза два или три, и положила ноты.
Даниэло Четтини пел довольно приятно, он знал два или три романса и спел их под аккомпанемент Аниты.
Пробило полночь, а они все еще сидели за инструментом. Нужно было расставаться. Но где же Катарина?
— Она, верно, уснула в своем будуаре, — весело сказал Четтини.
— Ведь она же хотела с вами поговорить, синьор… Угодно вам?
— Нет, нет! Ради Бога, не беспокойте ее! Я приду завтра, вот и все.
— Хорошо, приходите завтра.
Даниэло вернулся на другой день, на третий и так продолжалось целую неделю кряду; Габриэли при этом никогда не показывалась. Но каждый вечер он видел Аниту.
Что же делали они в эти вечера? Занимались музыкой?.. Как бы не так! Если б мы и сказали это, никто бы не поверил. Анита любила Даниэло до того, как узнала его, из-за сходства с Гваданьи; она полюбила его сильнее, когда познакомилась с ним. Со своей стороны, Даниэло полюбил Аниту за ее чисто женственную прелесть, скромность, нежность и целомудрие. Он полюбил ее безумно и готов был решиться на все, чтоб обладать ею.
Зная от сестры об ее успехах, однажды вечером Габриэли, посчитав минуту благоприятной, вдруг явилась перед любовниками. Даниэло стоял на коленях перед Анитой. Он быстро встал.
— К чему беспокоиться, синьор? — сказала, улыбаясь, Габриэли. — Присутствие сестры не должно прерывать нежности мужа и жены.
— Мужа? — повторил Даниэло.
— Конечно же! — ответила Габриэли. — Вы любите Аниту, мою дорогую, добрую сестру. Я отдаю ее за вас с пятнадцатью тысячами унций золотом. Вы отказываетесь?
— Нет!.. О нет! Я принимаю с радостью!
Пятнадцать тысяч золотом! Это около двухсот тысяч франков! Подобного рода приданое не часто приходилось получать в 1764 году сыновьям нотариусов. Теперь же все изменилось…
Свадьбу справили в особняке Габриэли, но молодые супруги сняли себе небольшой домик в городе, в котором они должны были жить, пока певица будет оставаться в Парме.
Затем они уехали во Флоренцию.
После бала Габриэли хотела сама проводить свою сестру в нанятый дом.
Они остались в брачной комнате.
— Довольна ли ты мной, Анита? — спросила Катарина.
— Ты все, что есть доброго на земле!
Катарина улыбнулась.
— Правда, — ответила она, — надо мной могут посмеяться, но мое поведение было просто героизмом… Подурнеть, чтобы разонравиться человеку — это бы еще ничего, но добровольно внушить ему отвращение — это жестоко! Наконец-то Даниэло твой!..
И, наклонясь к Аните, потому что вошел Даниэло, она прошептала:
— Завтра утром ты скажешь мне, действительно ли приятно выйти замуж за человека, которого любишь…
На другое утро Габриэли не имела надобности расспрашивать сестру: нежная томность, разлитая по ее лицу, страстная благодарность, с какой она смотрела на мужа, говорили больше, чем могли бы сказать все громкие фразы. Габриэли вздохнула.
«Действительно, — подумала она, — существует рай и в этом мире, но я никогда не узнаю его. Ну, если я не могу быть ангелом, буду продолжать жизнь демона… Рай не для меня… да здравствует ад!..»
В благодарность за великодушие Филиппа, потому что это он дал приданое Аните, Габриэли еще пятнадцать месяцев оставалась в Парме.
Потом она отправилась в Рим обнять отца, спокойно жившего небольшим домом, подаренным ему Катариной, и пожать руку старому Габриэли.
Она давала представления во многих городах Италии и Германии.
Наконец в 1768 году она отправилась в Петербург, куда уже давно приглашала ее Екатерина II.
Это путешествие через всю Европу показалось ей очень долгим и скучным. Думая о своей дорогой Аните, сколько раз в течение этого путешествия Габриэли сожалела о разлуке с сестрой.
— Я была тогда глупа! — говорила она сама себе. — Анита была моей единственной привязанностью: я не должна была жертвовать ею ради удовольствия синьора Даниэло.
Но Анита любила его… И, утирая слезу, Габриэли продолжала:
— Нет, я не сделала ошибки, выдав ее замуж, потому что она счастлива. Я не имею права жаловаться…
На другой день по приезде в Петербург Габриэли была представлена царице.
— Сколько вы желаете получать? — спросила Екатерина у Габриэли.
— Десять тысяч рублей.
— Десять тысяч! Но я не плачу таких денег моим фельдмаршалам.
— Прикажите же, ваше величество, и им петь.
Екатерина нахмурила брови, но тотчас улыбнулась и сказала.
— Хорошо. Я вам дам десять тысяч рублей.
В 1768 году в Петербурге было уже три театра, но так как Екатерина вызвала Габриэли для себя, то певица дебютировала в придворном театре в Эрмитаже, который был соединен арками с Зимним дворцом.
В Петербурге, как и в Вене, в течение почти двенадцати лет Габриэли, певица и куртизанка, не имела недостатка ни в овациях, ни в любовниках; между тем она была уже немолода. Но годы, начинавшие омрачать ее красоту, щадили ее голос. Кроме того, она была хорошо принята при дворе. Царица сразу выразила к ней свою благосклонность, которая никогда не изменялась. Не было праздника в Эрмитаже и в Царском Селе без Габриэли, и когда случайно — случай еще часто представлялся — певица была не в духе, чтобы присутствовать на каком-либо из этих торжеств, когда ей случалось отвечать отказом на любезное приглашение императрицы, эта последняя вместо того чтобы сердиться, подобно герцогу Аркоскому, весело покачивая головой, говорила:
— A! Понимаю! Габриэли сегодня не в духе. Оставим ее.
И тем все кончалось.
Один только случай из жизни Габриэли за те двенадцать лет, которые она провела в России, стоит рассказать, потому что он рисует нравы двора Екатерины II.
Князь Репнин, возвратясь после долгого пребывания в Варшаве, появился при Петербургском дворе. То был человек лет сорока, сохранивший в своем характере черты своего татарского, по матери, происхождения. Он не был неисправимо зол, не был глуп, но выказывал полнейшее презрение ко всему, что носило на себе печать честности, благопристойности, нравственности. Так, например, он хвастался, что во Франции, где он пробыл несколько времени, он жил в Париже за счет актрис, которых он проедал, как он сам выражался.
Однажды в Царском Селе, среди залы, в присутствии Екатерины II, перед несколькими женщинами, в числе которых была и Габриэли, князь Репнин развертывал картину своих успехов, которыми он пользовался у парижских актрис, танцовщиц и певиц.
— Ну, — сказала Габриэли, — если парижские актрисы, танцовщицы и певицы содержат своих любовников, то они очень глупы, и я утверждаю, в похвалу моим соотечественницам, что, по крайней мере, в этом случае они не похожи на парижанок.
Репнин пожал плечами.
— Полноте! — возразил он. — Женщины повсюду одинаковы, когда они любят.
— Когда любят, пожалуй! — ответила Габриэли. — Но что касается меня, я ручаюсь вам, что не полюблю человека, который будет больше лелеять мой кошелек, чем мое сердце.
— Э! Ловкий мужчина берет сначала, что бы там ни было, сердце, а уж потом добирается и до кошелька!
— Право? Мне было бы очень любопытно узнать такого ловкого человека, который сыграл бы подобную игру со мной…
— Вы отрицаете его существование?
— Да, отрицаю…
— Ваше величество и вы, мадам, будьте свидетельницами, что между нашей великой артисткой и мною объявлена война.
— Неужели вы сами, князь, — смеялась Екатерина, — рассчитываете вести ее?
— О нет! — возразил Репнин тем же тоном. — Я открыл мои батареи. Между мной и ею война была бы теперь не на равных. Но у генерала есть офицеры, и я надеюсь найти достойного меня.

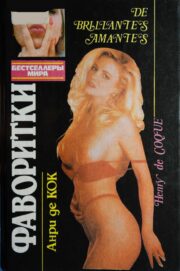
"Фаворитки" отзывы
Отзывы читателей о книге "Фаворитки". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Фаворитки" друзьям в соцсетях.