— Нет, я получил вести, только плохие. Вот что сегодня утром мне передали от Чианг-Гоа… Смотрите…
Сэр Гунчтон подал д’Ассеньяку лист бумаги, на котором было написано китайскими чернилами по-английски два слова:
«К сожалению!.. Ч.Г.»
— К сожалению?.. К сожалению! — повторял д’Ассеньяк. — Что это значит?
— Все ясно, — сказал сэр Гунчтон с натянутой улыбкой. — Это значит, что Чианг-Гоа отклоняет мою просьбу подарить мне ночь любви.
— Да? Вы так полагаете? — произнес д’Ассеньяк с плохо скрываемой радостью, ибо правду говорят, что в несчастье наших друзей всегда есть для нас что-то радостное. Неудача его соперника смягчила тревогу д’Ассеньяка, и он подумал, что Чианг-Гоа отказала сэру Гунчтону, желая сохранить себя для д’Ассеньяка. Самолюбие, где ты прячешься?..
— А вам, граф, не присылали посланий? — поинтересовался сэр Гунчтон.
— Нет. Я жду.
— Он решил ждать до второго пришествия, — смеясь, сказал Данглад.
— Я не стану препятствовать д’Ассеньяку, — признался сэр Гунчтон. — Хоть и изгнанный из рая, я, испытавший там всю обещанную сладость, поищу ее в другом месте. Вы, Данглад, ничего не ждете — не хотите ли поехать с нами в Бентен? Едем я, лорд Мельграв, сэр Вэльслей — дня на три.
Данглад отрицательно покачал головой.
— Благодарю вас, — сказал он. — Раз уж моего друга держит на берегу жажда удовольствий, то обязанности дружбы удерживают здесь и меня. Счастливый или нет, принятый или отвергнутый, Людовик не будет брошен мною в одиночестве в Иеддо.
— Что правда, то правда, — заметил сэр Гунчтон. — Орест и Пилад не расстаются… Итак, господа, сегодня вторник, я буду иметь честь видеть вас или в четверг вечером, или в пятницу утром…
— Господа! Господа! — вскричал д’Ассеньяк. — Не ошибаюсь ли я? Эта молоденькая девушка, которая сходит с носилок перед нашим домом, принадлежит Чианг-Гоа?..
Данглад и Гунчтон подошли к нему.
— Кажется, — сказал Данглад.
— Да, конечно, — сказал сэр Гунчтон, — это одна из служанок Чианг-Гоа, та же самая, которая была у меня утром. Но тогда она была в канчо, а теперь в норимоне. Признак победы, граф… Вы приняты. Служанка проведет вас к госпоже.
Д’Ассеньяк не дослушал. Он уже был возле японки, из рук которой взял письмо и тотчас же его распечатал. Вот что писала ему куртизанка:
«Графу Людовику д’Ассеньяку. Приходите! Чианг-Гоа.»
— Я принят!.. Принят! — вскричал он. — Прочтите, господа! Она говорит мне: «Приходите!» Вы были правы, сэр Гунчтон, норимон был хорошим признаком. До свидания, господа!.. До свидания, Эдуард!.. До завтра!
Без ума от своей победы, д’Ассеньяк пожал руки друзьям, называя сэра Гунчтона Эдуардом, а Эдуарда сэром Гунчтоном.
Последний попробовал было бросить каплю холодной воды на эту излишне пылкую радость.
— Полно, — сказал он тихо своему другу, — успокойся немного! Ты точно школьник, в первый раз отправляющийся на свидание. Честное слово, ты бесчестишь флаг Франции.
— Смеюсь я над Францией! — непочтительно возразил граф. — Что такое Франция? Во всем мире одна только страна — Япония! И одна женщина — Чианг-Гоа! Эта женщина зовет меня. Она пишет мне: «Приходи!» Я лечу! Прощай!..
И он бросился к носилкам, которые быстро удалились, несомые четырьмя сильными носильщиками.
— Но, — сказал Данглад сэру Гунчтону, вместе с ним видевшему всю эту комичную сцену, — не будет ли благоразумнее, если наша стража будет охранять моего друга до Чианг-Гоа?
— Бесполезно, — ответил англичанин. — Носильщики Бриллианта Иеддо известны всему городу. Никто не осмелится напасть на них. — И, поклонившись художнику, добавил: — Что ж, если мне не удалось сделать приятное лично для вас, то я рад, по крайней мере, что доставил полное удовольствие вашему другу. Его радость так горяча и непосредственна, что мешает мне ревновать, даже если бы я был сильно ревнив.
Данглад пожал плечами.
— Д’Ассеньяк — большой ребенок! — сказал он. — И вы уверяете, сэр Гунчтон, что этому ребенку нечего опасаться?
— Да что же может с ним случиться, кроме того, что предвидится? Он отправляется ужинать к прекрасной китаянке. Потом… Завтра утром вы его увидите радостнее, чем когда-либо, возвратившимся с рассказами о восхитительной ночи… Вот и все!.. Спите же с миром. Есть одна опасность, которой может подвергнуться граф этой ночью! Но эта опасность самого сладостного сорта…
Сэр Гунчтон удалился, оставив Данглада наедине с его печалью. Печального в первый раз после двухлетнего путешествия со своим другом.
Была ночь…
Он стоял, облокотившись на окно, зажав в губах потухшую сигару; сколько времени провел он в этом меланхолическом состоянии — он не знал. Но его вывел из него неожиданный случай.
От земли до окна, у которого стоял Данглад, было около двух метров. Вдруг — непонятно как — перед ним появилась фигура, почти у самой оконной решетки. При ее внезапном появлении Данглад машинально попятился назад.
Но чей-то голос сказал по-английски:
— Вы Эдуард Данглад?
— Я.
— Вам письмо от Чианг-Гоа.
Письмо от Чианг-Гоа?! Сомнения Данглада рассеялись. Значит, приглашение куртизанкой д’Ассеньяка было ловушкой, средством.
Через секунду художник читал при свете лампы:
«Ваш друг у меня, но я не люблю его; я люблю вас. Если не ради меня, то ради него — приходите!.. Чианг-Гоа».
Спустя еще минуту Данглад был уже на улице и крикнул посыльному: «Я иду за тобой!» Посыльный был одним из лонинов, голова у него была обвязана черным крепом так, что виднелись только глаза. Посыльный свистнул, на этот свист появился другой бандит, ведя под уздцы лошадей. Данглад не колебался и вскочил на лошадь. Меньше чем через четверть часа он остановился со своим проводником у дверей дома Бриллианта Иеддо.
Войдя к Чианг-Гоа, Данглад не знал, что ему делать. Он знал только, что д’Ассеньяк находится в опасности, что он или спасет его, или умрет вместе с ним.
Как только его ввели к куртизанке, но не в зал, где она принимала гостей накануне, а в будуар, которому позавидовала бы любая парижанка, Данглад грозно спросил ее:
— Где друг мой? Где он?
Но не проговорил еще он этих двух фраз, как понял по улыбке Чианг-Гоа, что его гнев и угроза бесполезны.
Она была еще прекраснее, чем вчера, в костюме из газа и розовой материи, едва покрывавшем ее пышные формы, в костюме, предназначенном для глаз одного счастливца, а не для взоров любопытной толпы зрителей.
О! Как она была прекрасна, когда, приближая свои уста к лицу художника так, что они почти касались его губ, она тихо и нежно проговорила:
— Ах, вы не хотите меня любить?
Нужно было быть святым, чтобы не задрожать сладостно при звуке этого голоса, при прикосновении этих уст, дышащих ароматом.
Данглад не был святым. Он не лгал: он гнушался куртизанок. Но Чианг-Гоа была ли куртизанка? Говорит ли когда-нибудь куртизанка, как сказала она в эту минуту: «Я люблю тебя!»
Данглад закрыл глаза и замер от поцелуя обольстительной женщины.
Однако, несмотря на любовь, верный дружбе, он прошептал:
— Но д’Ассеньяк?.. Где же он?
— Со мной! — ответила Чианг-Гоа.
— С вами? — повторил остолбеневший Данглад.
Она возразила:
— Вы не понимаете!.. Я объясню вам…
И она удалилась.
— Вы уходите? Куда же? — вскричал Данглад.
Восхитительным жестом, который значил: «Не бойся!.. Я не уйду от тебя!.. Я твоя!.. Вся твоя!..» — она успокоила его.
Прошло пять минут.
Данглад ходил по будуару, как лев в клетке. И о ком, о чем он думал эти пять минут? Уж не беспокоился ли о положении своего друга? Гм!.. Не думаем!..
Наконец появилась камеристка и знаком пригласила его следовать за ней.
Он шел за нею по длинному извилистому коридору до двери, которую она отворила перед ним.
Он вошел в таинственно освещенную комнату, в глубине которой на постели лежала женщина. Она протянула к нему руки для объятия, говоря: «Вся твоя!..»
Он кинулся к постели.
Но в ту же минуту комната наполнилась светом и раздался смех, заставивший Данглада обернуться…
О удивление!.. Сзади смеялась Чианг-Гоа.
Но кто же была женщина, лежавшая на постели и сказавшая голосом Чианг-Гоа: «Вся твоя»? Кто эта женщина?
Это была просто-напросто служанка прекрасной китаянки — молодая японка, необыкновенно искусно подражавшая голосу своей госпожи.
Все объяснилось!.. Данглад понял все. Для туземцев существовало три или четыре Чианг-Гоа, как и для распутных и великодушных иностранцев.
Д’Ассеньяк, подобно многим до него, не подозревая обмана, проводил ночь с ее копией. С одной из стразов, искусно подделанных под бриллиант.
Один только Данглад обладал истинной Чианг-Гоа…
Какая ночь!.. У Данглада были любовницы, любимые и любившие. Но все, что сладострастие имеет утонченного и изысканного, все, что мог он узнать из этой поэзии чувств, называемой любовью, было ничтожно в сравнении с теми сокровищами, которые ему подарила Чианг-Гоа.
Но у Данглада была душа. У Чианг-Гоа было сердце и — даже более деликатное, чем можно бы предположить у женщин, воспитанных, подобно ей, самым материальным образом.
Чианг-Гоа сожалела о том, чем она была, она сожалела инстинктивно, не объясняя себе мерзости своего ремесла.
Да и как она могла объяснить себе это: никто никогда не говорил ей, что это ремесло отвратительно…
— И никто не сомневался в твоей хитрости? — спросил Данглад.
— Никто, — отвечала она. — Даже и европейцы обманывались. И это понятно. Во-первых, как ты мог заметить, комната, в которой думают найти меня, освещена очень слабо. Потом, прежде чем они входят в эту комнату, я даю им выпить в чайной чашке шампанского, несколько капель ликера, который, не повреждая рассудка, мгновенно слегка отуманивает.

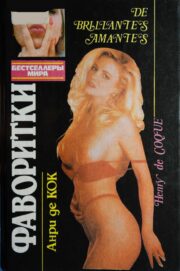
"Фаворитки" отзывы
Отзывы читателей о книге "Фаворитки". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Фаворитки" друзьям в соцсетях.