Наконец явился император вместе с императрицей. Они были встречены восторженным криком толпы, повторявшимся три раза: «Да хранят вас боги!»
Не станем подробно описывать всех актов зрелища и займемся описанием сюрприза, приготовленного Мессалиной и Нарциссом для Клавдия и народа.
Представление началось охотой за оленями, затем происходила конная битва, потом борьба ста человек с несколькими львами, тиграми, медведями и т. п. Зрелище было великолепное. Но герольд в самом начале объявил, что оно окончится битвой братьев Петра, всадников, с гладиаторами.
Римляне с особым нетерпением ожидали этой битвы. Нетерпение их еще больше подогревалось при виде огромной эстрады, сооруженной на камнях посреди арены и огороженной мощными кольями, соединенными между собой цепями, как бы для того, чтобы не дать прорваться туда ни людям, ни зверям.
— Гладиаторы будут сражаться на этой эстраде? — спросил Клавдий у Мессалины и Нарцисса.
— Да.
— Но как они взойдут? Я не вижу лестницы.
— Только бы взошли, а то о чем еще беспокоиться вашему величеству!
— В полу, быть может, есть лестница?
— Может быть.
— Они спрятаны под полом?
— Мы не говорим, что нет.
В назначенную минуту, как в наших волшебных пьесах дьяволы, на сцене появились двести гладиаторов и среди них оба всадника; каждый одет в приличествующий случаю костюм — в тунику без рукавов, стянутую поясом, с головой, покрытой шлемом, с мечом в правой руке, на которую надета железная перчатка.
Один из них, Друз Петра, младший из братьев, обращаясь к императорской ставке, провозгласил от лица всех:
— Кесарь, идущие на смерть тебя приветствуют!
Кесарь поклонился. Битва качалась.
Жестокая битва! Без жалости и пощады. А между тем эти люди не испытывали никакой ненависти друг к другу. Они убивали по высочайшему повелению. Вместо справедливого гнева в них возгоралось самолюбие, оно двигало ими, заставляя защищаться и убивать как можно больше врагов.
Битва продолжалась уже около получаса: треть сражавшихся валялась на полу, истекая кровью.
Император веселился.
Однако что-то отравляло ему настроение. Роза имела шипы. До этой минуты братья Петра, помогая друг другу с невероятной ловкостью, оставались живы и здоровы.
— Ах! Неужели не убьют их! — ворчал он.
Как будто в ответ на великодушное желание повелителя братья убили еще двух противников.
— Это постыдно! — вскричал император. — Гладиаторы — люди, обязанность которых состоит в том, чтобы убивать, позволяют побеждать себя простым любителям.
— Вы хотите, чтобы они тотчас же умерли? — спросила Мессалина, наклоняясь к своему супругу.
— Да, да! — ответил он, не подумав, иначе он признал бы невозможным исполнение своего желания. Всадники должны были пасть, но только тогда, когда утомились бы битвой.
— Приказание вашего величества будет исполнено, — сказала Мессалина.
В левой руке у нее был красный шелковый платок. Три раза она махнула этим платком. То был сигнал начальнику цирка.
Раздался свисток, и опять-таки, словно по волшебству, в одну минуту пол, на котором сражались гладиаторы, раскрылся, и живые и мертвые, победители и побежденные провалились в бездну, из которой, как из кратера, вылетало пламя и дым.
Крик восторга двадцати тысяч зрителей, мужчин, женщин и детей, приветствовал это столь же неожиданное, сколь и быстрое исчезновение.
Народ был достоин своих чудовищ-правителей!
— Ну что же, — сказали Мессалина и Нарцисс Клавдию, который от изумления сидел с раскрытым ртом и блуждающими глазами, — довольны вы теперь? Хорошо это?
— Очень хорошо, — ответил император. — Но, — прибавил он со вздохом, — очень скоро кончилось!
Из кожи несчастных, отданных по повелению императора палачам и диким зверям, Мессалина сделала носилки.
Ее расточительность не знала границ. В ее апартаментах попирали ногами пурпур. Она ела только на золоте, оставляя серебро Клавдию. В ее спальне на бронзовом треножнике постоянно курились самые драгоценные ароматные смолы, за громадные деньги доставляемые из Аравии и Абиссинии.
В этой комнате, в обществе самых красивых женщин и юношей Рима, по крайней мере раз в неделю происходили празднества в честь Венеры.
Нетрудно догадаться, что происходило на этих ночных оргиях: они скандализировали всю империю. Но Мессалина мало заботилась об общественном мнении, и еще менее об оппозиции, встречаемой ею со стороны тех, которых она призывала на эти празднества.
Кто бы она ни была: мать ли самого честного семейства, невинная ли девушка, женщина ли, девственница, — она должна была повиноваться приказанию присутствовать во дворце Августы на ночной оргии.
На одной из площадей Рима возвышалась колонна, называемая Лакторией, у подножия которой оставляли найденышей.
Однажды Мессалине пришла фантазия отправиться к этой колонне. Когда она сходила с носилок, то заметила молодую женщину, выразительная и приятная физиономия которой поразила ее. На руках у этой женщины был ребенок, которого она подняла с каменных ступеней статуи. Ее сопровождал молодой человек с мужественными и суровыми чертами.
— Кто ты? — спросила Мессалина, касаясь одним из своих больших ногтей, которые она отпускала по обычаю знатных римских женщин, руки молодой женщины.
Ей отвечал провожатый.
— Меня зовут Андроником, — сказал он. — Та, с которой ты говоришь, Августа-Сильвула, моя жена.
— Разве у вас нет детей, что вы отыскиваете их здесь?
— У нас есть один ребенок, — возразила Сильвула, — но в его колыбели есть пустое место, и Бог повелел заботиться счастливым матерям о тех, которые плачут.
Мессалина молчала несколько минут, бросая злобный взгляд на молодую чету, и потом проговорила:
— Ну, Андроник и Сильвула, вы мне нравитесь. Сегодня вечером вы оба явитесь в мой дворец на праздник Венеры.
Андроник и Сильвула отрицательно покачали головой.
Мессалина нахмурила брови.
— Что это значит? — заметила он. — Вы отказываетесь?
— Есть один только Бог, — сказал Андроник, — и этот Бог не дозволяет распутства…
— А-а! — воскликнула императрица. — Так вы — иудеи? — и, обратившись к двум сопровождавшим ее ликторам, прибавила: — Рефус и Галл, приказываю вам привести ко мне завтра этого мужчину и эту женщину.
Андроник и Сильвула обменялись горестными взглядами, и, вскинув голову, Андроник сказал:
— Не тревожь своих служителей, августейшая. Ты требуешь — мы явимся во дворец.
И на другой день действительно Андроник и Сильвула явились к Мессалине в тот час, когда начиналось празднование в честь Венеры.
Но когда, после их приветствий императрице, их приготовились увенчать розами и подали им чашу с питьем, которое предназначалось для возлияния богам, Андроник, оттолкнув чаши и венки, громко воскликнул:
— Есть один только Бог! И этот Бог велит его послушникам лучше умереть, чем оскорбить его!
Христианин еще не докончил этих слов и, прежде чем кто-либо мог воспрепятствовать его замыслу, поразил кинжалом свою жену в грудь и упал с нею рядом, пронзив себя тем же оружием.
Мессалина пожала плечами и толкнула ногой еще трепещущие трупы.
— Уберите эту падаль! — крикнула она своим слугам.
На луперкалиях, празднествах, установленных Ромулом и Ремом, в память о том, что они были вскормлены волчицей, царило самое бесстыдное распутство. И Мессалина была первой женщиной в Риме из столь высокого класса, которая опустилась ниже самой последней своим бесстыдством.
На луперкалиях в течение многих часов, как только дневной свет уступал место светильникам, можно было видеть полуобнаженную Мессалину с распущенными волосами, с лицом, разрумянившимся от вина, бегающую вокруг смоковницы, под которой, по преданию, Ромул и Рем были вскормлены молоком волчицы.
На сатурналиях Мессалина также подавала народу пример самого безобразного разврата.
С известной точки зрения это имело свое оправдание. Паганизм, почти исключительно состоявший из чувственных элементов, узаконивал злоупотребление всеми наслаждениями, всеми страстями, всеми пороками, как будто надеясь посредством этого с успехом бороться с новой религией…
Отдаваясь со всею пылкостью своей крови и нервов нечистым безумствам луперкалий и сатурналий, Мессалина повиновалась богам… она не была преступна…
Но от чего с ужасом отвращается ум, что подымает в душе омерзение, что поражает глаза, так это то, что эта презренная женщина, — жена кесаря, — не довольствуясь более принимающими поцелуи любовниками, преследует тех, которым их продают…
Ювенал в одной из своих кровавых сатир вывел Мессалину, предпочитающую нары царственному ложу; он показал нам эту царственную куртизанку закутывающейся в одежду темного цвета, скрывающей под черным париком свои белокурые волосы и спешащей в сопровождении наперсницы в один из тех подлых домов Субурского квартала, где ожидала ее пустая каморка, над дверью которой было написано имя Лизиски, под которым она проститутничала, и обозначена цена ее ласк.
Ювенал также передал нам, как усталая, но не пресыщенная Лизиска в час утреннего рассвета, с пожелтевшими щеками, еще пропитанная вонью ламп, «возвращалась к изголовью императора, принося с собой смрад своего чулана».
Опустим же занавес на этом отвратительном периоде из истории Мессалины. Что может быть любопытнее и ужаснее этого очерка страшного падения? Ее смерть? Да, смерть и предшествовавшие ей факты. И расскажем, как умирала волчица…
Мессалине самой хотелось управлять в цирке колесницей, запряженной четверкой лошадей, привезенных из Македонии.
Она была очень искусна в управлении своими конями. Однако однажды одна из лошадей споткнулась и увлекла других в своем падении. Мессалина так сильно была сброшена на землю из колесницы, что потеряла сознание.

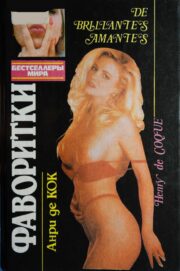
"Фаворитки" отзывы
Отзывы читателей о книге "Фаворитки". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Фаворитки" друзьям в соцсетях.