Почему так случилось? – спрашивал себя я. Может быть, моя отстраненность, мое безразличие стали ошибкой, возможно, они отдалили тебя, и я сам во всем виноват? Или это произошло из-за того, что я занимался не тем, для чего предназначен, и это пагубно сказалось на остальных моих возможностях, и я потерял силу? Ведь я сам всегда считал, что творческая потенция определяет любую другую. Но какая разница, что являлось причиной? Я терял тебя, остальное не имело значения.
Я представил, что нас ждет в будущем: твои измены, потом, наверное, мои, просто так, из желания отомстить, споры, ругань и выяснения отношений, отчуждение, и все, больше ничего. А затем разрыв и в лучшем случае взаимная ненависть, а скорее всего – безразличие. Я не хотел этого. Я подумал, что, если мне не суждено удержать тебя рядом, я, возможно, смогу удержать тебя на расстоянии. Именно благодаря расстоянию. Может быть, думал я, потом, когда ты узнаешь других мужчин, ты поймешь, что для тебя существую только я один и никого больше. Так будет честнее, так не будет измен, только свободный выбор, и тогда, возможно, нам удастся сохранить нашу любовь.
Была и еще причина: я стал замечать проблески. Помимо моей воли в сознании рождалась своя, отличная от реальности жизнь, люди в ней двигались, разговаривали, и тогда мои губы сами начинали шевелиться, и я уже знал слова. Я понял, что это возвращается мой дар.
Возможно, его возрождение было связано с тобой, с болью, которую ты мне причинила, с моим поражением. Знаешь ли ты, любимая, что поражения, если от них не погибают и оправляются, в результате поднимают выше, чем победы? Конечно, знаешь, теперь знаешь. Так произошло и со мной, твое предательство насильственно взломало что-то внутри меня, сдвинуло, перевернуло, и от этого мой доселе отстраненный, затопленный дар высвободился из-под насевшей на него тяжести и поднялся, всплыл на поверхность. И теперь требовал от меня новой попытки.
Итак, все было решено, ты еще не знала, но все было решено. Я позвонил старым знакомым, и тебя пригласили в Италию. Я знаю, тебе обидно это читать, но ты не должна расстраиваться, ты была исключительно способной и достойна этого места.
Мне следовало спешить, кто-то из журналистов узнал мое новое имя, раскопал номер телефона, и все мои планы могли рухнуть в любую минуту. Помнишь телефонный звонок, заставший меня врасплох, когда мне пришлось придумать историю про некоего писателя, своего неудачливого однокашника. Надо было торопиться, и я принялся уговаривать тебя, стараясь как можно мягче, чтобы ты не заметила, и ты не заметила. Ты уехала. И началась новая эпоха для тебя, но и для меня тоже.
Я долго думал, как мне остаться в твоей жизни, и придумал наши письма. Я сам не сразу понял, насколько это удачная находка, лишь позже я оценил: ничего лучшего и представить было нельзя. Я удерживал тебя письмами. Я, Стив, остался, как и хотел, самым близким, самым доверенным для тебя человеком, единственным, кто был посвящен во все детали твоей жизни, без утайки, без излишней позы, без желания приукрасить. Я не только все знал, я еще имел возможность влиять па тебя, ты, наверное, и не заметила, но это я прервал пару твоих недолгих романов, я тогда еще не понимал, что мне незачем их опасаться. Я ощутил, что снова становлюсь сильнее, что вновь значим для тебя, возможно, более, чем прежде, и эту силу мне дали письма.
Интересно, что я больше не ревновал тебя, боль прошла. Да и к кому мне следовало ревновать? Все те, кто находились с тобой, оставались далеко внизу, я парил над миром, я правил им, оттуда, свысока. Почему так случилось? Да потому, что, рассказывая мне в подробностях о своих увлечениях, ты представляла их всех на мой суд, и я мог казнить или миловать. Я, заметь, как правило, миловал, потому что именно в этом привилегия сильного – не в ревности, не в казни, а в помиловании.
К тому же наша жизнь постепенно растеряла ощущение реальности, она превратилась в игру моего ума, фантазию, начавшуюся с твоего отъезда, затем продолжившуюся письмами и так никогда не окончившуюся. Я не уверен, поймешь ли ты, но я чувствовал, что наконец жизнь сравнялась с мечтой, став призрачной, неосязаемой, нереальной, подобной фантазии, выдумке, моей очередной книге. Подумай об этом и постарайся понять, это важно для дальнейшего.
Я стал писать новый роман, и у меня получалось. Конечно, я ушел из университета, я оказался никудышным преподавателем, мои лекции были пронизаны застывшей скукой: одинаковые слова, одинаковые мысли, если таковые вообще имелись. Я спешил к своей новой книге, спешил поведать еще одну, доныне никому неведомую историю, она единственная привносила смысл в мою жизнь.
Я писал долго, высасывая из ночных фантазий живительные капельки удовольствия, все до последней; вообще, в моем существовании осталось лишь две первопричины, два источника: ты, любимая, и моя новая книга. Я жил в наших письмах и в книге, я поселился там, я изгнал себя из реального мира, и, когда выходил на улицу, люди шарахались от меня. Я знал, что мой внешний вид пугающе странен, но разве это могло меня беспокоить? Мой новый книжный мир оказался значительно богаче мира реального, к тому же он зависел только от меня. Понимаешь, Джеки, я был Богом, я создавал вселенную, страны, города, людей, и они жили и дышали, как я хотел того.
Я целый год писал книгу об итальянском театре. Я не говорил тебе, но моя мать итальянка, мое детство прошло в Италии, и меня всегда тянуло вернуться, и вот я вернулся, начав писать книгу об актере. Вскоре я заметил, что мой персонаж исподволь подменяет меня, я не противился, и, собственно, все двенадцать месяцев, что я писал, я и оставался им – актером итальянского театра.
Я жил в Италии, играл в спектаклях, видел со сцены заме-ревших зрителей, загорался от их рукоплесканий, был гибким и пластичным, я нервно чувствовал и нервно любил. Я никак не напоминал того одичалого человека, который выползал по ночам из своего маленького, неопрятного домика на самом конце заброшенной деревни, небритый и грязный, со спутанными волосами и диким взглядом. Но именно потому я и выглядел небритым и грязным, что меня не было ни в домике, ни на окраине деревни, именно потому я озирался диким, отсутствующим взглядом, что не понимал, откуда этот одинокий с облупившейся краской дом и эта почти нежилая улица.
Если бы кто-то подслушивал, стоя под моей дверью, он бы подумал, что в доме живет множество различных людей, иначе откуда этот постоянный говор многих голосов, откуда эти всплески хохота, откуда эта ругань, а потом плач, а потом нежность примирения, откуда эти стоны и вскрики любви? Он бы не знал, тот, кто подслушивает, что там, в глубине дома, расположилась маленькая Италия и еще театр, с режиссером, со множеством актеров, но главное, там уместилась целая жизнь одинокого артиста.
Я специально долго объясняю, чтобы ты, Джеки, вникла в мое состояние, в ход моих мыслей, это важно, от этого зависит, поймешь ли ты меня в дальнейшем.
Я работал над книгой почти год. У меня получалось, я сам это чувствовал, а когда закончил, мне стало немного грустно: я не хотел возвращаться из книги, оставлять театр, своего героя, его роли, Италию. Книга была закончена, а я по-прежнему находился в ней. А потом ко мне пришла простая мысль, которой я даже сначала испугался, настолько она казалось очевидной. Я и не должен возвращаться!
Я отлично помню, я сидел в своем домике, подошло время отъезда, я уже снял квартиру в Манхэттене, все ждали моего триумфального возвращения, но я не спешил. Я сидел и перечитывал твое последнее письмо, а потом отложил его и посмотрел за окно. Я ничего не увидел, кроме черноты, пытающейся проникнуть в комнату, но свет отпугивал ее, потому она и затаилась у окна, терпеливо поджидая, когда он устанет.
Я и не должен возвращаться, подумал я. Целый год я был актером, я мыслю и чувствую, как актер, да я уже и не могу без театра. К тому же жизнь в Италии я понимаю лучше, а эту, здесь, я давно растерял и забыл. Мне надо выбирать. И я выбрал Италию.
Конечно, возникли проблемы. Я много лет не говорил по-итальянски, и требовалось поднабрать слов и избавиться от акцента. Но это мелочь, что впитал с детством, с молоком матери, то никогда уже не уйдет, достаточно пару месяцев посмотреть фильмы и поговорить по-итальянски, и акцент уйдет, а словарный запас восстановится. Это было понятно, неясным являлось другое.
Смогу ли я начать новую жизнь, смогу ли покончить со Стивом, разрушить его до основания, стереть даже память о нем, развеять по ветру имя, язык, привычки, внешность, походку, голос, привязанности, прошлое, надежды? Я имею в виду полное уничтожение Стива, стирание его с лица земли, как и уничтожение всего набора, который его определял. Ведь только так, думал я, возмозкно создать нового себя.
Я не берусь за что-то простое, говорил я себе, я о сложном, о том, чтобы произвести небывалый эксперимент, чтобы уместить в одну физическую жизнь несколько разных. Я о том, чтобы перехитрить природу, судьбу, перехитрить жизнь. Чтобы, как птица Феникс, сжечь себя и, чтобы, как птица Феникс, возродиться из пепла. Я о том, чтобы обмануть Бога.
На самом деле, Джеки, все выглядело не совсем так, это сейчас решение кажется однозначным, а если уж копаться и вспоминать, то оно обтесывалось и полировалось годами, ему предшествовало немало намеков и предпосылок. Например, однажды меня познакомили с женщиной необычной и потому восхитительной красоты. Лицо ее приковывало взгляд странной асимметрией, я долго пытался разобраться в нем, разложить на составляющие и понял наконец, что нос, тонкий, с дикими, чуть вывороченными ноздрями, которые вздрагивали пугливо, начинается чуть ниже, чем должен. Именно он и придавал всему лицу странную, необычную красоту, от которой нельзя было оторваться ни взглядом, ни памятью. И еще: она вызывающе неумело себя вела.
От человека всегда ожидаешь поведения, соответствующего его внешности. И как правило, не ошибаешься, потому что за долгое время каждый подбирает подходящий себе ритм движений, поступь, манеру говорить, может быть, не всегда оптимальные, но близкие к ним. Здесь же бросалось в глаза полное несоответствие внешности и поведения, которое раздражало, вызывая внутренние неудобства. Эта женщина слишком быстро и резко говорила, всегда не к месту, громко смеялась, размахивая руками, не зная, куда их деть. Она казалась неловка голосом и манерами, неловка и неуклюжа, и это досаждало. Через несколько дней я вспомнил о ней в кругу товарищей, мол, помните, как жаль: такая красота и такое нелепое поведение. Кто-то из моих приятелей усмехнулся, и я спросил его, в чем дело. «Видел бы ты ее полгода назад», – сказал он. «А что было полгода назад?» – поинтересовался я. Он снова засмеялся, как бы призывая других: «Ты бы посмотрел на ее нос. Он не отличался от носа Пиноккио. Она сделала пластическую операцию и еще сама не поняла, почему к ней липнут мужики».

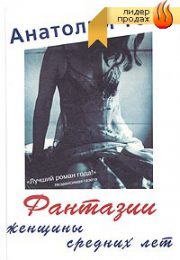
"Фантазии женщины средних лет" отзывы
Отзывы читателей о книге "Фантазии женщины средних лет". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Фантазии женщины средних лет" друзьям в соцсетях.