– Время быстро идет, – сказал он, а я подумала: «Какой же он толстокожий? Почему он не понимает, что происходит во мне?» – Ты знаешь, что через месяц будет три года как мы вместе?
– А ведь правда. – Сейчас, когда он это сказал, я тоже вспомнила. Мы встретились в мае, действительно три года без месяца.
– Когда тебе надо быть в Италии? – Переход прозвучал неожиданно, как будто все решено. А ведь ничего решено не было.
– В июле, – ответила я и тут же оговорилась, – но я не хочу ехать, – и снова оговорилась:
– Без тебя.
– Не спеши, подумай, время есть, – сказал Стив, и я сразу почувствовала облегчение. Действительно, что я нервничаю? Еще достаточно времени, чтобы решить.
Мы зашли в кафе, было субботнее утро, для нас чудесно нашелся столик, и мы тут же потребовали кофе. Меню не понадобилось, мы часто завтракали здесь, а иногда, когда дома не было продуктов, заходили и поужинать. Народ вокруг был в основном нашего возраста, лишь несколько пожилых пар, им, видимо, было приятно в этой молодежной суматохе, в гуле голосов, посуды, маневренно снующих гибких официантов. Столик находился у окна, и я быстро заняла место, откуда было удобно смотреть в зал. Стив усмехнулся, мы всегда спорили из-за этого, он тоже любил смотреть на людей.
– Знаешь, – сказал он, когда мы уселись, – что в Америке самое лучшее?
– Что? – спросила я.
– Официанты. Я не поняла.
– Ты о чем?
– Я говорю, что в Америке официанты значительно лучше, чем в Европе.
– Слушай, – сказала я, – может быть, ты хочешь, чтобы я уехала?
– Нет. Я не хочу. – Он помолчал. – Но если говорить о тебе, где еще, как не во Флоренции, изучать архитектуру? Я был там, когда-то давно, это сказка, музей под небом. И глупо упускать шанс. – Потом он подумал и добавил:
– Я бы поехал на твоем месте.
– Хорошо, – сказала я, – я поеду, если ты настаиваешь.
– Ты не понимаешь, так будет лучше для тебя.
Я все равно не приняла решения сразу, я думала еще недели две, перед тем как согласиться. Конечно, с точки зрения прагматичной логики мне следовало поехать. В нашем университетском городке архитектурных компаний не было, а это опять означало переезд и расставание со Стивом. К тому же претендовать я могу только на небольшую зарплату. «А так, – думала я, – после учебы в Италии я буду знать и уметь куда как больше. Стив, он единственный, из-за кого мне не хочется ехать. Но он и сам считает, что мне стоит рискнуть и что только от нас самих зависит не потерять друг друга».
Я дала согласие и последние два месяца до отъезда провела в сборах. Каждый день приносил новые, казалось, пустяковые, мелочные заботы и растаскивался ими по кускам, оставляя лишь вечер, когда меня, усталую и замотанную, уже ни на что особенно не хватало. Все это время я пребывала в нервном, лихорадочном возбуждении, я даже в постели перестала чувствовать, как раньше, и Стив пытался успокоить меня, но не мог.
Я так сильно вжилась в него за последнее время, что даже сама удивлялась, я и не подозревала, что настолько могу привязаться. Вечером, когда мы уже лежали в постели и я доверчиво, как никогда прежде, прижималась к нему всем телом, я чувствовала, как предательски сдавливает горло, и я не плакала, нет, но глаза покрывала непрозрачная пленка, и я опускала голову вниз, чтобы он не заметил. Раза два или три я все же не могла сдержаться, и слезы прорывались наружу вместе с ревом, и я спрашивала дрожащим голосом: «Может быть, мне не уезжать?», но он молчал, и я щекой чувствовала, как он пожимает плечами.
Сейчас я понимаю, что Стиву тоже было непросто. Много лет спустя он написал в письме, что хотел схватить меня и увезти, спрятать под замок, отлучить от мира, оставив только для себя. «Только потому, – писал он, – что на карту было поставлено твое будущее, я пошел на жертву и позволил тебе уехать».
Мы договорились так перед отъездом: писать друг другу письма. Стив вообще патологически не любил телефон, он его боялся, даже вздрагивал, если вдруг раздавался звонок. Он говорил, что телефон, возможно, и подходит для деловых договоренностей, но никак не для общения.
– Телефон неличностен, сиюминутен, – говорил Стив, – он не связан ни со временем, ни с человеком. Голос рассыпается в момент произношения, его невозможно закрепить во времени. Кроме того, из-за все той же скоротечности голос не продуман, неискренен, слишком поверхностен. Он не может передавать глубоких эмоций, только секундное настроение, не говоря уже о чувстве. Но главное – он не остается с тобой.
Письмо – другое дело. Оно требует времени и обдумывания и, помимо того, что оно вечно, оно еще личностно, его можно много раз перечитывать и сохранять. К тому же почерк. Он, как запах для собаки, как отпечатки пальцев, по нему можно многое распознать. А потом, письмо не пишется мгновенно, оно требует много времени, порой нескольких дней. А это значит, что человек думает о тебе, ему не жалко своего эмоционального напряжения. Каждое письмо, по сути, является произведением, созданным для одного человека. Не случайно публикуют письма знаменитых людей. Письмом не отмахнешься, как телефонным звонком…
Я видела, что Стив может еще долго продолжать, и, удивляясь его непривычной напористости, перебила:
– Чего ты так завелся из-за ерунды?
Он стушевался, видимо, ему самому стало неудобно от своей многословности, и сразу сбавил тон:
– Действительно, чего это я? Не знаю, наверное, наследственное. У нас в семье, знаешь, всегда был культ письма и почти ненависть к телефонам. В меня заложили с детства, что, когда человеку наплевать, он звонит, а когда важно – пишет. И теперь я не хочу, чтобы ты для меня выродилась в телефонные звонки.
Это была правда, Стиву почти никогда не звонили, а если сам он куда и звонил, то разве что заказать пиццу. Зато каждую неделю он получал несколько писем, в основном, он говорил, от родителей, которые жили где-то на западном побережье. Он тоже писал в ответ, редко дома, как правило, на работе, но я часто видела запечатанные и готовые к отправке конверты.
Перед самым отъездом мы снова занимались любовью, и мне снова было хорошо, хотя я так и не смогла до конца унять нервную напряженность. В последнюю ночь, когда Стив обнимал меня и говорил что-то успокаивающее, видимо, от его голоса и еще от мысли, что, возможно, я никогда его больше не увижу, я по-настоящему разревелась, как никогда раньше, даже ребенком. Эту ночь мы не спали вообще, то мы занимались любовью, то обсуждали, когда он сможет приехать или когда смогу я, а потом сидели на кухне, пили кофе. Он казался особенно родным этой ночью, я хотела вжаться в него, я обнимала его, все было мокро вокруг от слез, и я снова целовала его, всего-всего, и снова плакала.
К утру я уже ничего не понимала и ничего не могла различить, какая-то неведомая мне густая ватная усталость навалилась на меня и накрыла, и хотя что-то пробивалось до меня, но лишь искаженно. Мне даже нравилось это мое эмоциональное измождение, как будто накурилась чего-то, только здесь все получилось натурально, без химии, а только от любви.
Стив обнял меня, потом взял двумя руками за голову, отстранил от себя и долго смотрел, как бы изучая, впитывая. Я тоже попыталась запомнить его, я заглянула в его глаза, но они отличались от тех, к которым я привыкла, бездонность была притушена, они, казалось, потеряли свою неестественную прозрачность. Что-то подменилось в них за это время, что-то ушло.
– Я люблю тебя, – сказал он. – Я всегда буду любить тебя.
– Я тоже, – шептала я. Я не могла говорить, все плыло, я только могла повторять.
– Ты моя родная. – Он не отпускал моего лица. – Я всегда буду думать о тебе.
– Я тоже. – Мне хотелось упасть, сползти на пол в этом полупустом аэропорту.
– Ты часть меня. Слышишь? И всегда останешься моей частью. Ты всегда будешь принадлежать мне.
– Я тоже. – Я понимала, что я не попадаю, но не все ли равно.
– Ты никогда не будешь принадлежать другому, как принадлежишь мне. Я знаю это.
– Я тоже.
– Ты мне будешь писать. Через день, слышишь, через день! А я буду писать тебе тоже через день, слышишь! Я не хочу дурацких звонков, я хочу писем, твоей души, твоей руки, твоего запаха…
– Я знаю. Молчи, я знаю. Я буду. Я так люблю тебя.
Я приподнялась и накрыла его рот поцелуем. Голова так кружилась, что казалось, у меня нет веса, только чувства, одни невесомые чувства. Стив оттолкнул меня, и я пошла, вокруг смешались спешка, движение, гул, кто-то задел меня, кто-то заслонил от Стива, но это были прозрачные тени.
– Я люблю тебя, – крикнул Стив.
– Я тоже, – прошептала я.
Кто-то взял у меня билет, направил куда-то мой шаг, я обернулась перед самым выходом, но не разглядела его, все было очень смутно.
– Я тоже, – мне казалось я говорила вслух. – Я люблю тебя. Только тебя.
Приблизительно через месяц в одном из писем, которые Стив, как и обещал, писал через день, он сообщил, что в ближайшее время не приедет. Он сослался на что-то бытовое, мол, его не отпускают на работе, и я отодвинула срок. Потом дата его приезда снова оказалась перенесена, я спрашивала в письмах: «почему, что случилось?», но Стив объяснялся расплывчато, я так и не разобралась в причине. Получалось, что наша встреча не приближалась, а, наоборот, отдалялась. Где-то через год я поняла, что Стив не приедет никогда.
Я отталкиваюсь ногами от земли, совсем легко, даже носочки не отрываю. Впрочем, этого достаточно, ствол прибитой к земле березы, на котором я сижу, пружинит, приподнимая меня, но потом, как бы убеждаясь в бесплодности своей попытки снова стать прямым, растущим ввысь деревом, мягко планирует вниз. Прохладно, но прохлада не раздражает, а, наоборот, освежает меня, я только плотнее запахиваю свободную куртку. Мне бы надо походить, подвигаться, но я не успеваю, я снова листаю книгу.

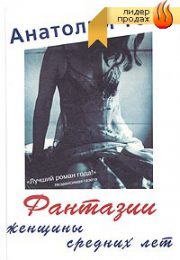
"Фантазии женщины средних лет" отзывы
Отзывы читателей о книге "Фантазии женщины средних лет". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Фантазии женщины средних лет" друзьям в соцсетях.