Как щедро лило свои лучи солнце с безоблачно-голубого простора, как нежно щебетали птицы, как ласково плескались волны о прибрежные скалы! Такого лета у меня не было с тех пор, как я покинула дом моего детства. То было время почти безмятежного счастья для меня, и, надеюсь, для моей Мартины. Моей Мартины! Да, теперь я называла ее своей, ибо решила, что никогда и ни за что на свете не расстанусь с девочкой, столь необычным образом попавшей под мою опеку. Я совершенно уверилась, что она-то и была предметом моих «исканий», я это верно угадала в свое время. Ее воспитание стало для меня делом жизни, ее общество — моей наградой. Раз уж мистер Эллин не сумел разыскать ни мисс Мэрфи, ни высокую даму в черном, на время затмившую Тине свет солнца, я решила не предаваться более воспоминаниям, так как совершенно уверовала, что более никто не может законно претендовать на бывшую ученицу мисс Уилкокс. Мы с мистером Эллином сделали все, что только в силах человеческих (конечно, в пределах разумного): старались разыскать ее родственников, уговаривали Мартину открыть нам то, что ей велено было держать в секрете. Письмо, которое должно было освободить ее от данного слова, теперь уже никогда не придет, ибо тот, кто намеревался его написать, лежит на дне Атлантического океана. И пусть ее тайна — какова бы она ни была! — умрет вместе с ним: не хочу больше о ней слышать, не хочу знать того, чего Тине говорить не позволено. Пусть поскорее изгладится из ее памяти прошлое — его пора забыть. Пусть она знает только то, что отныне она мое любимое дитя, моя любимая приемная дочь.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Прошло семь лет с тех осенних дней, как я поверяла бумаге изложенные выше воспоминания, мемуары — назовите, как хотите. Зачем, может спросить меня читатель, стала я рассказывать историю своих потерь и обретений после того, как мы вернулись от синего и лилового морей Тины в «Серебряный лог»? Что за причины побудили меня провести столько долгих вечеров над тем, что является всего лишь не имеющей конца историей? В таком случае, вот мой ответ: более всего меня побуждало к тому желание «отвлечься», как сказала бы Тина, от загадки, которую я не в состоянии была разрешить.
Как раз в то время стало совершенно ясно, что мистер Эллин хочет от меня большего, чем спокойная платоническая привязанность, которую я готова была дарить ему. Наши религиозные взгляды совпадали, а вкусы в музыке, литературе и искусстве различались лишь настолько, чтобы споры и разногласия доставляли нам удовольствие; наше дружеское общение было просто и естественно. Все это удовлетворяло меня, и, осознав, что мистер Эллин настроен иначе, я встревожилась и обеспокоилась. Ему можно было и не говорить ничего: мы и без слов хорошо понимали друг друга. Кроме того, будучи человеком благоразумным, он не хотел искушать судьбу, видя, как я отступаю, постоянно отступаю, хотя и не скрываюсь с глаз долой.
Я все думаю, что ощущал король Кнуд,[20] видя, как все ближе и ближе подкатываются к его ногам волны. Должно быть, ему хотелось подобрать свои королевские одежды и спастись бегством, а не оставаться на своем «гибельном сиденье»,[21] дожидаясь неизбежного холодного купания. На его месте я бы понемножку отодвигала свой трон назад, каждый раз на несколько дюймов, надеясь, что раньше или позже прибой отхлынет.
Какую бы привязанность и уважение к мистеру Эллину я ни питала, я не могла заставить себя снова подумать о браке. Унылые, мрачные пятнадцать лет оставили в моей душе глубокие отметины. Я не отваживалась думать о повторном замужестве. Разве я не счастлива, не довольна всем в своем уютном доме? Разве нет у меня цели в жизни — моих исканий?
И, как уже было сказано, я старалась отогнать незваные мысли, записывая историю Мартины для воображаемого читателя, и отложила свое перо не раньше — это произошло в начале ноября, — чем мирные мои дни были нарушены чередой поразительных событий, последствия которых оказались еще более поразительными. Внезапно вся жизнь моя переменилась, и прошло много времени, прежде чем я вспомнила о рукописи, в которой были запечатлены мои поиски. Когда же я наконец вспомнила о ее существовании, то обнаружила, что она необъяснимым образом исчезла.
Я пожалела о пропаже, но не более того. Дни мои были так заполнены, что не оставляли времени для воспоминаний о прошлом. Так промчались, пронеслись семь лет. Но вот несколько недель назад я занялась делом, которое давно откладывала, — разборкой одного из сундуков на чердаке.
Там и обнаружилась моя книга для записей — но как она туда попала, осталось для меня тайной.
Взяв ее в руки, я обнаружила, что там осталось порядочно чистых страниц. Без сомнения, нельзя отнести к числу моих достоинств нелюбовь ко всякой и всяческой незавершенности. Как раздражали меня ненужные вещи, которые из года в год оставались в благотворительной корзине, пока я не поняла, что их предназначение — стать одеждой для Элинор-Арминель! И потому, читатель, я решила рассказывать историю других людей и свою собственную, сколько хватит этих чистых белых страниц, а там — придет ли мое повествование к благополучной развязке или нет — оборвать его.
Начать с того, что мистер Эллин выразил явное неодобрение, когда я сообщила ему, что теперь считаю Тину своей приемной дочерью. Напрасно я твердила, что он зря мнит себя детективом не хуже джентльменов с Боу-стрит: он продолжал настаивать на том, что, вопреки бесплодным усилиям, следует продолжить поиски. Тинино упоминание о пропавшем письме служило ему достаточным основанием, чтобы считать, что тайну ее прошлого, возможно, удастся разгадать. Где-нибудь, полагал он, может обнаружиться добрая родственница, о которой Тина никогда не слышала и которая охотно откроет сиротке свое сердце и свой дом. И поскольку написать обещанное письмо уже не во власти мистера Фицгиббона, друзья семьи непременно сделают все возможное, чтобы обеспечить девочке счастливое будущее, о котором говорил ей отец.
Я не соглашалась с мистером Эллином. В частности, я пренебрегла его предположением о существовании добросердечной родственницы, затаившейся в ветвях генеалогического древа Фицгиббонов. Наш спор длился долго и временами становился настолько горячим, что грозил взаимным охлаждением, каждый из нас настаивал на своем, и добиться согласия не удавалось. Но прежде чем кто-либо из нас признал себя побежденным, дело повернулось самым неожиданным образом. У мисс Уилкокс был брат, пописывавший статьи в газеты и журналы. Приехав погостить в «Фуксию», он подробнее узнал о неблаговидном поведении мнимой наследницы и ее отца — и изложил всю эту замечательную историю для самых широко читаемых газет, в которых сотрудничал! У него хватило совести назвать по имени меня и мистера Эллина как соседей, поддержавших мисс Матильду Фицгиббон после ее разоблачения. Роль же мисс Уилкокс бойкое перо ее братца представило в самом выгодном свете; высокую оценку получила ее проницательность: ведь именно она при помощи золотого браслета-змейки с выгравированным именем «Эмма» выяснила, что девочку зовут не Матильдой, а Мартиной. Мы с мистером Эллином должны были довольствоваться скупым упоминанием о том, что тоже кое-что сделали, прочитав на сундучке с игрушками буквы «Т. Д.». Цветисто и с чувством живописал он нерушимое молчание Мартины и ее очевидную боязнь повредить неизвестному злодею — возможно, обозначенной на браслете «Эмме» — откровенным признанием. Говоря об обманутой наставнице Мартины, он заключал свой шедевр красноречивым призывом ко всем родственникам объявиться и исполнить свой долг по отношению к девочке, чье изящество и красота тронули сердца всех, кто ее знает.
Я была вне себя от ярости, прочитав эти претенциозные излияния, поскольку полагала, что они приведут к гораздо худшим последствиям, чем любые осмотрительно составленные объявления, которые рассылал по газетам мистер Эллин. Со стороны моей собственной семьи я не рассчитывала на сочувствие: все как один считали, что чем скорее я избавлюсь от своей невесть откуда взявшейся воспитанницы, тем лучше. Хотя те из них, кто видел Тину, были настроены менее воинственно, а Малтреверсы, Хью и Джулия, соглашались, что она довольно милая девочка, но слишком избалована мистером Эллином и мною, явно не имеющими понятия о том, как следует обращаться с детьми. Я чувствовала себя, как медведица, у которой хотят отнять детеныша, в еще большую ярость меня приводило то, что от мистера Эллина не приходилось ожидать никакого сочувствия. Он, подобно удалившемуся в шатер Ахиллу, предавался обиде в тот день, когда появилась статья мистера Уилкокса, поскольку в последней нашей словесной битве за Тину оказался побежденным. Более того, как я догадывалась, он нисколько не сожалел о злополучном опусе мистера Уилкокса и полагал, что методы газетчиков могут оказаться более действенными, чем его собственные сдержанные и вежливые обращения.
Они и оказались более действенными, но совсем иначе, чем полагали мы с мистером Эллином. Спустя несколько недель — по совпадению, в тот самый день, как я кончила записывать историю Мартины, — небольшая закрытая коляска подъехала к воротам дома ректора и кучер принес записку, адресованную гувернантке, якобы от меня. Не будет ли она так добра разрешить Мартине уйти с уроков пораньше, так как миссис Чалфонт хочет поехать с ней за покупками в Барлтон? Мисс Спиндлер дала разрешение, Тина радостно выбежала на улицу — и больше ее не видели.
До пяти часов вечера ее никто не хватился. Я с утра поехала навестить подругу, которая была одна, хоть тяжело болела, и оставалась с ней, пока ее замужняя дочь, уже извещенная о болезни матери, не приехала, проделав довольно долгий путь. Поскольку я не могла дать знать обо всем этом Джейн и Элизе, они были несколько удивлены, что ни я, ни Тина не вернулись домой к обеду. Увидев, что Элизабет и Анна рвут в саду зелень для кроликов, Джейн поинтересовалась, что случилось с Мартиной, не оставила ли ее гувернантка после уроков? Девочки объяснили, что Тину отпустили пораньше, и она, в радостном предвкушении поездки, убежала.

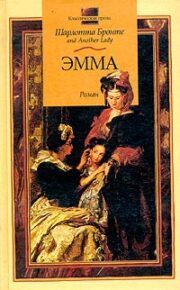
"Эмма" отзывы
Отзывы читателей о книге "Эмма". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Эмма" друзьям в соцсетях.