Первое, исключительно женское, воспитание положило в сердце молодого человека первые любвеобильные начала, обратившиеся непосредственно в любовь сыновнюю. Природная мечтательность и тонкое прирожденное чувство поэзии образовали кроткую, почти женственную натуру Эдмона.
Мать он любил так же, как и она его любила: в ней он видел больше, чем женщину, даровавшую ему жизнь. Независимо от признательности за ее неусыпные попечения, он понял, когда стал рассуждать, как велика жертва, принесенная ему молодой, богатой, прекрасной женщиной, посвятившей всю свою жизнь заботам о воспитании сына.
И молодая мать, любившая одного сына в годы полного развития своей красоты, сделалась первою поверенною юношеских впечатлений Эдмона.
Прямо и чистосердечно открывал он ей первые зарождавшиеся в его душе вопросы, и она сообщала правильное направление его первым инстинктам.
Взаимная откровенность между матерью и сыном сблизила их еще более: Эдмон стал любить г-жу де Пере как первую женщину, внушившую ему привязанность: г-жа де Пере гордилась его красотой и возвышенным образом мыслей — ее же наследием.
Они понимали и любили друг друга, как посторонние: родство только увеличивало и определило их привязанность.
Иногда их можно было принять за жениха с невестой: столько в их отношениях было взаимного доверия, задушевности и самой нежной предусмотрительности.
Часто Эдмон ложился у ног г-жи де Пере и по целым часам любовался ею, расспрашивал об ее молодости, целовал ее руки. Он непременно хотел, чтобы мать выезжала; в свете он гордился ею. Чувства его к матери были выше любви: он обожал ее.
Если Густав хотел отклонить своего друга от какого-нибудь поступка, ему стоило только произнести магические слова:
— Это огорчит твою мать.
В первой главе читатель видел действие этих слов на Эдмона.
Долго любящее сердце Эдмона довольствовалось преизбытком привязанности к матери: время открыло ему новые стороны любви и указало на других женщин; сердце требовало новых, еще неведомых ощущений.
Г-жа де Пере заметила нравственную перемену в своем сыне: точно он сделался задумчивее и мечтательнее, даже будто стыдился новых мыслей своих. Ему казалось, что, предаваясь им, он оскорбляет мать.
Тогда молодая женщина, сознавая необходимость мужского надзора, поручила своего сына Густаву.
— Следите за ним в его первых связях, — сказала она. — Вы его так любите, и его доверие к вам неограниченно. Он так слаб здоровьем и так впечатлителен… Помните, что я его очень люблю. Больше Вам нечего говорить.
С этих пор влияние Густава на своего друга приняло новый, сообразный с намерениями матери характер.
Заметим к слову, что пылкая и сильная натура Густава поддалась обаянию г-жи де Пере: Густав был без памяти влюблен в нее шесть месяцев, с самого поступления Эдмона в коллегию, хотя никогда не выразил ей своего чувства ни словом, ни взглядом. С летами, разумеется, любовь эта рассеялась: в нем сохранилось чувство глубокой преданности и почти религиозного уважения к женщине, впервые взволновавшей его сердце.
В нем осталось от этой любви тихое воспоминание, похожее на аромат цветка, вынесенного внезапно из комнаты. Глаз не видит, рука не осязает, но аромат чувствуется и, незримый, неосязаемый, чувствуется сильнее и приятнее.
IV
Отношения между г-жой де Пере и ее сыном были просты и истинны; она любила Эдмона, как пожилая добрая женщина прекрасного юношу, для которого, назад тому пятнадцать лет, как мать отказалась от рассеянной светской жизни.
Не было ни упреков, ни подозрений в ее кроткой, чуть заметной опеке: не было страха, ни ропота в его сыновней покорности.
Когда Эдмон достиг совершеннолетия, г-жа де Пере хотела дать ему отчет в делах по имуществу отца его.
— В первый раз ты во мне усомнилась, — сказал он ей с легким упреком.
Зимой они стали вместе выезжать на балы. Эдмон любил, чтобы мать его танцевала; г-жа де Пере была счастлива, когда в обществе хвалили ее сына.
Летом они вместе ездили в окрестности и целые вечера проводили вдвоем на чистом воздухе, как влюбленные, ездили верхом, составляли с небольшим числом друзей загородные поездки и развлечения.
Г-жа де Пере, очень мало жившая внешнею жизнью, сердцем была одних лет со своим сыном.
Эдмон плакал при одной мысли, что его матери придет срок состариться и умереть: он не мог отделить идею своего существования от существования матери.
В таком положении были дела, когда Эдмон, после встречи с Еленою, вошел в будуар г-жи де Пере.
По нескольким словам, вырвавшимся у Эдмона в начале нашего рассказа, читатель заметил, вероятно, что герой наш не был совершенно чужд действительной жизни.
Он был сам свидетелем простосердечной любви гризеток; примеры самоотверженной страсти внушили ему сочувствие и некоторое уважение к этим женщинам, вообще не пользующимся в свете хорошею славою.
Особенно поразила его история Нишетты.
Не скрывая ничего от матери, он рассказал ей и эту историю. Она выслушала ее со слезами на глазах и непременно хотела узнать героиню; Нишетта была модистка: предлог найти было очень нетрудно.
Г-жа де Пере очень полюбила ее и, не показывая вида, что знает про ее связь с Густавом, часто разговаривала с нею по целым часам и давала ей дружеские советы, которым Нишетта всегда следовала.
Бедная девушка веровала в каждое слово Густава, а он прямо сказал ей, что г-жа де Пере во всех отношениях превосходная женщина.
Расскажем здесь, как оригинально выразилась любовь Нишетты и отчего к ней так привязался Домон.
Года за два до нашего рассказа, поутру часов около восьми, Густав, имевший обыкновение вставать рано, проходил мимо цветочного рынка. Женщина в простеньком, но кокетливо сшитом ситцевом платьице, в маленькой соломенной шляпке и в мериносовой шали, превосходно обрисовывавшей ее прекрасно развитые формы, останавливалась перед каждою лавкою, осматривала весь цветочной товар и, будто не находя что ей нужно, продолжала идти, не обращая внимания на приглашения торговок:
— Что вам угодно, сударыня? Пожалуйте, у нас всякие цветы есть.
Густав издали заметил эту разборчивую покупательницу и, когда она почти подошла к нему, нашел ее очаровательною. У нее были черные, с изумрудным отливом глаза, белый, как молоко, цвет кожи, несколько вздернутый носик, свежие и, как вишни, алые губы, ямочки на щеках и на левой щеке родимое пятнышко.
Но что особенно поражало в ней, кроме ее больших глаз и черных, ровно выведенных бровей, — это волосы.
Белые и мягкие, как пряжа, они постоянно казались будто освещенными косвенными лучами солнца и, мелкими завитками облегая всю ее головку, сообщали ей красоту, которую только Ватто умел придавать своим пастушкам.
В подвижности всей ее фигуры, в мягкости и тонкости очертаний было что-то кошачье. Густав бессознательно остановился и залюбовался этим очаровательным созданием. Казалось, лучшая мечта художника отделилась от полотна и ждала только нового Пигмалиона, чтобы затрепетать жизнью и любовью.
Ей было не более девятнадцати лет.
Не купив ничего, она дошла до последних лавок и, сообразив, вероятно, что наконец нужно же решиться, остановилась перед одной торговкой, у которой, впрочем, цветы были нисколько не лучше, чем у других.
Густав тоже остановился, будто для покупок.
— Почем этот розовый кустик? — спросила хорошенькая женщина, показав своею маленькою, обтянутою лайковой перчаткою ручкой на один из горшков с розами, симметрично расставленных на прилавке.
— Сорок су, — отвечала торговка.
— Ой, как дорого! — вскрикнула гризетка.
— Зато, девушка, самый лучший кустик. Посмотрите, какие цветы, все эти бутончики через два дня зацветут. У вас будут розы все лето.
— Полноте! Там у вас известка внизу, уж я знаю. Завянет через неделю.
— У нас есть розы и подешевле; посмотрите, если желаете. А известки в моих горшках нет! У нас нету этого и обычая. Возьмите подешевле.
— Нет, если я и возьму, так тот; а сорока су не дам.
Густав стал прислушиваться.
— Сколько ж вы даете?
— Двадцать су.
— За тридцать я уступлю.
— Двадцать.
— Дешевле тридцати в убыток себе продать.
— Как хотите. Не уступаете?
— Как же можно еще уступить?
Гризетка хотела уже уйти, но к ней подошел Густав и, вежливо приподнимая шляпу, сказал:
— Позвольте мне предложить вам этот розан; вам, я вижу, так бы хотелось иметь его.
— Извините, я не могу согласиться, — отвечала, вся покраснев, Нишетта. — Я не имею чести вас знать.
— Это будет прекрасным поводом к знакомству.
— Так вы с этим условием дарите мне розан?
— И не думал этого; я у вас не прошу ничего, кроме позволения предложить вам этот розан и другие, какие понравятся вам, цветы.
Нишетта взглянула на Густава и улыбнулась. Торговка знаками ей показывала, чтоб она согласилась.
— Заплатим пополам, — сказала гризетка.
— Позвольте мне заплатить одному, это не разорит меня. Опять повторяю вам, что розан в сорок су, разумеется, ни к чему вас не обязывает.
— Хорошо, я возьму. Дайте сюда розан, — сказала она, обращаясь к торговке.
Торговка с жадностью схватила деньги, а Нишетта взяла горшок под мышку.
— Я прикажу снести его к вам, — заметил Густав.
— Лишнее беспокойство.
— Так позвольте мне, в таком случае…
— Я донесу сама.
— Может быть, вы не так близко живете?
— На улице Годо.
— Можно мне проводить вас?
— Согласившись принять от вас розан, отчего ж не согласиться идти с вами?

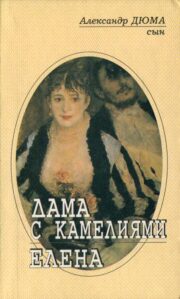
"Елена" отзывы
Отзывы читателей о книге "Елена". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Елена" друзьям в соцсетях.