— Как я буду радоваться снова, увидав нашу комнатку, — сказала Елена, обнимая мужа, — комнатку, в которой мы так любили друг друга и так еще будем любить, — не правда ли?
Ответом был, разумеется, поцелуй.
Было положено, что Густав и Лоранса поселятся в том же доме, если позволит помещение; если нет, на той же улице Трех братьев, и вообще не расстанутся и в Париже.
Через два дня две почтовые коляски стояли у белого домика.
Расставаясь с ним, Елена проронила несколько слезинок. Какое-то смутное предчувствие говорило ей, что в нем она оставляет часть своего счастья. Нужно ли объяснять все ее воспоминания и надежды перед отправлением?
Лоранса, наследовавшая от отца наклонность к кочующей жизни, никогда не жалела покидаемых мест.
— Мать, — тихо сказал г-же де Пере Эдмон, — скажи, что проездом ты хочешь быть в Туре.
— Зачем? — спросила г-жа де Пере.
— Мне нужно навестить одну пустынницу.
Г-жа де Пере исполнила желание сына. Приехали в Тур.
Выходя из кареты, Эдмон тихо сказал Густаву, не спрашивавшему, но уже знавшему намерение своего друга:
— От тебя сказать что-нибудь Нишетте?
— Ты к ней пойдешь? — сказал Густав.
— Да, я должен.
— Пожми ей от меня руку; больше ничего.
— А ты не пойдешь со мной?
— Лучше пусть меня не видит!
Эдмон справился, где магазин Шарлотты Туссен. Ему указали улицу.
Это был маленький, но со вкусом устроенный магазин чепчиков, кружев, лент и проч.
Не входя еще, Эдмон заглянул в окна.
Нишетта сидела за прилавком. Бедная девушка была очень бледна и вся в черном, как в трауре. Она работала.
«Сколько перенесла бедняжка, — подумал Эдмон, — с тех пор, как я видел ее последний раз, вот так же за работой — у другого окна!..»
Он вошел.
Нишетта подняла голову и, узнав Эдмона, вскрикнула. Эдмон хотел обнять ее, она сама бросилась к нему на грудь, заливаясь слезами.
Сильнее всяких слов говорило ее волнение.
— Ну как вы теперь, Эдмон? Здоровы? — спросила Нишетта, несколько оправившись и с твердым намерением не упоминать о Густаве.
— Меня вылечили, Нишетта, я совсем здоров.
— Слава Богу! Уж я как вас жалела, сколько молилась за вас!
— Добрая Нишетта!
— Вы одни здесь?
— Нет, с женою, с…
— С кем? — вырвалось у побледневшей модистки.
— С матерью.
По интонации ответа Нишетта поняла, что и Густав с женою были в Туре и что Эдмон не сказал ей этого, видя, что она побледнела.
— Вы едете в Париж?
— Сейчас едем. Я только заехал в Тур, чтобы обнять вас, Нишетта, и чтобы сказать вам, что люблю вас по-прежнему.
— Не проходит дня, чтобы я не вспоминала о вас и о том времени… когда виделась с вами так часто. Помните наши пирушки на улице Годо? Для меня это было счастливое время.
Слезы опять выступили на глазах Нишетты, да и Эдмон плохо владел собою.
«Как решился Густав ее оставить?» — задал он себе вопрос.
— Не будем говорить об этом, — сказала Нишетта, прикладывая платок к глазам. — Вас по-прежнему любят… жена, мать?.. Здоровы они?
— Слава Богу.
— Будьте, Эдмон, счастливы. Дай Бог!
— Ну, а вы как, Нишетта? Счастливы?
— Да, — отвечала она со вздохом, — сколько могу; Шарлотта очень добра, заказов у нас всегда довольно; да, я счастлива.
Если бы Нишетта, рыдая, жаловалась на свою участь, ее жалобы и рыдания не отозвались бы так тяжело в сердце Эдмона, как эти простые, дышавшие покорностью слова.
Во все время разговора имя Густава не было произнесено ни разу; но во все время оно было в голове и в сердце модистки.
Ей мучительно хотелось, чтобы Эдмон заговорил о Густаве; но Эдмон не решался, она стала бы расспрашивать, а что можно отвечать про счастье человека оставленной им женщине? Не хотел он тревожить ее чуткие воспоминания.
Когда две почтовые коляски выезжали из Тура, женщина под вуалью стояла, скрывшись за деревом и полагая, что ее не видно с дороги.
— Видел? — тихо спросил Эдмон у своего друга.
— Что?.. Да… видел, — отвечал, запинаясь и с волнением, Густав. — Нишетта? Да?
— Как она изменилась, Густав!
— Бедная девушка! — прошептал Домон.
И слеза скатилась с его ресниц.
Эпилог
Читатель!
Если ты веруешь, что поэзия юности до могилы сопровождает человека;
если не все твои мечты разлетелись; если ты хочешь видеть только хорошую сторону жизни;
если отвергаешь смешение добра и зла в человеке; если ничто не оскорбляло тебя в жизни, если ты искренно дружен десять лет с одним человеком, если жена тебя не обманывала, если ты сумел сохранить во всей чистоте и силе свою любовь к ней, если не бросал ты назойливому и неотвязному нищему — своему прошедшему — его милостыню — слезы;
если ты полагаешь, что молодой, любимой жены, независимого положения, денег и здоровья довольно человеку для счастья, закрой, добрый человек, эту книгу — ты прочитал уж ее последнюю главу; мне тебе нечего рассказывать, ты мне не поверишь; да я и сам не хочу смущать тебя, разрушать твои верования. Если герой мой на несколько часов доставил тебе сносное препровождение времени, радуйся тому, что он жив, здоров и что его любят.
Но если, напротив, ты немного отведал опыта жизни, если знаешь, что сердце наше не может постоянно питаться одними и теми же радостями, как желудок не может довольствоваться одною и тою же пищею, если могила похитила что-нибудь тебе дорогое, если сомнение подточило кое-какие из твоих верований, если ты равнодушно проходишь мимо женщины, на которую не мог смотреть некогда без неизъяснимого трепета, если утратило для тебя смысл имя, от которого прежде тебя бросало то в жар, то в холод, смотря по тому, кем и как оно было произносимо, — тогда другое дело! Тогда поговорим, мой читатель; мы друг друга поймем, и, дочитав до конца эту книгу, ты, может быть, скажешь вместе со мною:
«Грустно, да что ж делать? Правда».
По приезде Эдмона в Париж трудно было найти в этой столице счастливых человека счастливее его. Проездом он побывал в Туре, повидался с Нишеттой, заплатил ей долг сердца, и в комнату, где узнал первые радости супружества, входил богатый надеждами, свободный от упреков.
Воспоминания любви приветствовали его в этой комнате, как хор птиц. Все предметы, которые он уже не надеялся видеть, ему улыбались. Он испытывал то же, что испытывал Густав в маленькой комнатке Нишетты, но к его впечатлениям не примешивалось тяжелое чувство: боязнь огорчить некогда любимую и любившую его женщину; Эдмон любил почти сильнее, чем прежде.
Не остановиться ли нам, читатель? Путь Эдмона усеян цветами: не будем подкапываться под его счастье и отыскивать в нем темные пятна; не будем следить за каждым шагом, отдаляющим нашего героя от иллюзий и приближающим к беспощадной действительности… Не лучше ли, по обычаю старых романистов или даже современных нам авторов водевилей, заключить нашу и без того длинную историю законным браком? Развивай ее дальше, если желаешь: предположи, что молодые супруги будут вечными любовниками, как Филемон и Бавкида, и что у них, как у крестьян Флориана, будет великое множество детей.
Другой вопрос — верно ли это будет истине. Молодость еще не составляет всей жизни, так же как весна не составляет целого года. Следует ли постоянно твердить людям: «Идите с миром и без боязни; жизнь хороша: нет в ней ничего ложного, ничего изменчивого!» Или следует предостеречь путника, что на него могут напасть воры и ограбить его? Путник поблагодарит нас и примет свои предосторожности.
Задача романа — верное отражение действительной жизни; выполнив эту задачу, автор достигает самой цели романа, нравственного влияния на читателя. Роман должен воспроизвести обе стороны жизни, показать оба лица этого нравственного Януса, называющегося человеческим сердцем. Если мы возьмем для этого волшебное стекло, в котором все будет отражаться в ложном виде: деревья будут зимой покрыты зелеными листьями, у старика будут черные, густые волосы — мы погрешим против истины, вместо пользы сделаем зло. Проводник (а роман во всяком смысле и во всех отношениях проводник) берется указывать дорогу: пусть же он предостережет путешественника, если, ступив на цветы, можно провалиться в пропасть.
Возможно ли на земле продолжительное счастье? Говорим положительно: нет! Из двенадцати месяцев, составляющих год, шесть месяцев природа лишена цветов и солнца.
Ни один из великих истолкователей сердца человеческого не решался продолжать счастье своего героя далее возможных пределов; все склонялись перед роковою необходимостью, оградившею жизнь человека, с одной стороны, надеждою, с другой — сожалением.
Возьмем три лучшие книги, книги сердца, молодости и страсти: Павел и Виргиния, Вертер и Манон Леско.
Ни Бернардэн де Сен-Пьерр, ни Гете, ни аббат Прево не оставили своих героев жить в той среде счастья, в которую их поставили. Читатель сочувствует их страдальческим личностям, хочет, чтобы они жили, но они умирают, и тем полнее вызываемое ими сочувствие.
Положим, что Виргиния осталась в живых и вышла замуж за Павла, что Вертер не застрелился, а сочетался законным браком с Шарлоттой, что Манон перестала обманывать шевалье де Грие и живет с ним так, как он хочет, — на несколько минут мы, может быть, истинно порадуемся счастью этих любящих, симпатичных личностей, но только на несколько минут. Проследим до конца их счастье и посмотрим, долго ли оно продолжится и что из него выйдет?
Мы заметим, что невозможна продолжительность такого счастья, что в самой своей полноте и зрелости носит оно семена разрушения и что только смерть могла увековечить эти полные очарования образы любви, молодости и поэзии, что жизнь загрязнила бы их и преобразила безжалостно…

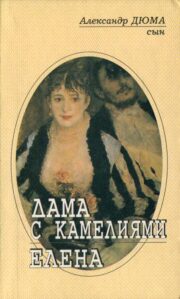
"Елена" отзывы
Отзывы читателей о книге "Елена". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Елена" друзьям в соцсетях.