Г-жа де Мортонь и ее дочь движением головы подтвердили слова полковника.
Поблагодарив де Мортоня, доктор тотчас же спросил:
— Стало быть, де Пере еще жив?
— Третьего дня ему даже было лучше, — отвечал де Мортонь.
— Благодарю, благодарю вас, полковник; я отец жены де Пере, я доктор; позвольте мне предложить и вам мои услуги, если, на несчастие, кто-нибудь у вас будет нуждаться в моей помощи.
Де Мортонь и Дево пожали друг другу руки, и последний в сопровождении Густава направился к указанному домику.
Полковник с женою и дочерью продолжали прогулку.
Едва вошел Дево, Елена бросилась к нему на шею, г-жа де Пере целовала его руки и, обняв Домона, как сына, только и сказала ему: «Бедный мой Густав!» Но в голосе, каким были сказаны эти три слова, слышалось, как много выстрадала она в одну неделю и как еще велики ее опасения.
Подойдя к постели больного, доктор взял его руку.
Эдмон не пошевельнулся. Он был в беспамятстве.
— Мюрре был? — спросил доктор у дочери.
— Был.
— Открывал кровь?
— Да.
— Каждый день?
— Каждый день.
— Хорошо.
Густав и г-жа де Пере, притаив дыхание, слушали каждое слово доктора.
Дево отвернул одеяло и приложил ухо к груди больного.
— Сам Бог послал ему эту болезнь, — сказал он, покрывая Эдмона.
— Что это значит? — вскрикнули обе женщины.
— Если мне удастся вылечить эту простуду, — продолжал доктор, — он будет избавлен вполне от своего постоянного недуга. Теперь в нем ничто не сопротивляется лечению; легче медику действовать на больного, прикованного к постели, чем на пациента, который и ходит и ест; ничтожнейшая случайность может тогда уничтожить все усилия медика.
— Стало быть?.. — вскрикнули обе женщины.
— Стало быть, можно полагать с достоверностью, что эта простуда к его же счастию.
Г-жа де Пере и Елена, смеясь и в одно и то же время плача, бросились обнимать друг друга.
Выздоровление Эдмона было точкою соприкосновения их привязанностей.
Будто праздник настал во всем доме.
— Сколько тебе надобно времени, отец? — спросила Елена.
— Не совершенно вылечен, а спасен Эдмон может быть в две недели; само выздоровление протянется долго, потому что в это время я буду действовать на самое болезнь. Это пройдет пять, шесть месяцев, пока мы здесь.
— Стало быть, ты не уедешь?
— И ты спрашиваешь! Ведь твое счастье в здоровье мужа — не так ли?
— И в твоем здоровье, отец.
— Доброе дитя! — сказал Дево, обнимая Елену. — Теперь вот что: я хочу, и — понимаешь — хочу как доктор, чтобы ни одной слезы не было во всем доме…
Через три недели, точно, весь дом будто ожил.
Елена сидела у постели больного. Эдмон говорил с трудом, но уже смотрел сознательно и держал жену за руку.
— Ты много плакала в эти три недели, — говорил он ей слабым голосом. — Ангел! Как ты должна была страдать! Ужасная болезнь! Жить и не видеть тех, кого любишь! Я тебя чувствовал здесь, возле себя, потому что сердце мое связано с твоим невидимою нитью — и не мог видеть тебя, не мог говорить: бессознательный бред покрывал все, что я хотел сказать…
— Бедный друг!
— О! Если я возвращусь к жизни, ты будешь самою счастливою женщиною в мире — я этого хочу. Где же моя мать? Моя мать? Знаешь, я почти забыл про нее, увидав тебя! Я тебя так люблю, что любовь воротилась ко мне раньше сознания.
— Она в зале; она знает, как любишь ты встречать меня при своем пробуждении, и нарочно ушла, видя, что ты уже вне опасности. «Я ему теперь не нужна», — сказала она. — Как она тебя любит, Эдмон!
— Отыщи ее, — сказал Эдмон — и его глаза наполнились слезами при мысли о святой любви матери, — нужно ее побранить, что не дождалась моего пробуждения. Ты меня не ревнуешь к ней?..
— Она ревнует…
— Друг мой, она отдала мне все свое сердце и не может привыкнуть к мысли, что в моем есть место и другой привязанности. Умри ты, Елена, — я застрелюсь, но если умрет мать — я, кажется, сам умру с горя. Приведи ее.
Елена поцеловала в лоб мужа и пошла в залу.
Оставшись один, Эдмон произнес тихо:
— Боже! Дай здоровья и счастья этим двум ангелам, поставленным Тобой на пути моем.
При входе Елены в залу г-жа де Пере разговаривала с де Мортонем, его семейством, Дево и Густавом.
— Эдмон хочет вас видеть, маменька, — сказала Елена, — хочет пожурить вас за то, что, проснувшись, только встретил меня одну.
Радостная улыбка пробежала по лицу матери.
Г-жа де Пере побежала к сыну.
— Ты обо мне вспомнил, друг мой? — сказала она.
— Обойми меня, добрая мать, — сказал Эдмон, обнимая ее исхудалыми своими руками, — твоя любовь возвратила мне жизнь.
— Спасен! Спасен! — шептала г-жа де Пере. — Доктор сейчас говорил. Господи, благодарю Тебя!
И она крепко целовала сына.
— В зале гости? — спросил Эдмон.
— Да, полковник Мортонь.
— Кто это?
— Достойнейший человек; все время, как ты болен, приходил узнавать о тебе, с женой и дочерью… Дочь очень хороша, шестнадцати лет. Ведь у Дево свои привычки… В Париже он по утрам с больными, а вечером или принимает у себя, или играет в клубе. Здесь ему трудно отстать. Сначала ты был так болен, что он занимался тобой целый день; теперь тебе, слава Богу, легче… ведь легче, дитя мое?
— Легче, моя добрая, успокойся.
— Ну, ему вечером скучно, и он хочет развлечься, он и играет с полковником в пикет. Иногда мы, чтобы сделать ему удовольствие, садимся с ним в вист. Меня это, конечно, не занимает, мне приятнее быть с тобою; но ведь он так много для нас сделал, что для него можно и поскучать. Я бы ему, кажется, жизнь отдала.
— А Густав? Ведь ему здесь, страх, скучно?
— Нет, он не скучает. По утрам ездит верхом с полковником и его дочерью, иногда заезжают очень далеко — это их развлекает. Теперь за тебя все спокойны. Скоро вот тебе можно будет вставать, ты придешь в залу, будешь играть с нами. Впереди еще много счастливых дней, друг мой.
— Бедная мать! — заметил Эдмон, внимательно всматриваясь в г-жу де Пере.
В самом деле, ее узнать было трудно. Несколько счастливых дней не могли изгладить тяжелых следов страдания.
— Да, — отвечала она, — я переменилась за это время. Ты найдешь на моей голове несколько лишних седых волос… Это что, впрочем! Теперь я опять помолодела.
И г-жа де Пере снова поцеловала сына и на своем лице почувствовала слезы Эдмона.
XXIII
Густав постоянно уведомлял Нишетту о ходе болезни Эдмона. Дни, в которые гризетка получала письма из Ниццы, были для нее настоящими праздниками. С самого отъезда Густава она имела очень мало развлечений, лучше сказать вовсе не имела. Для того чтобы угодить ему, она давно бросила свои прежние знакомства и с его отъездом осталась совершенно одна в Париже.
Сначала она много плакала, потом, узнав, что Эдмон вне опасности, радовалась до безумия потому, во-первых, что ей было бы очень жаль, если бы Эдмон умер, а во-вторых — во-вторых, потому, что с выздоровлением де Пере связано было возвращение Домона.
Она написала ему письмо: в нем говорилось, как ей скучно, с каким нетерпением ждет она своего друга, как мечтает о нем.
Получив это письмо, Густав внимательно прочел его два-три раза и потом, положив в карман, сказал с истинным участием:
«Бедная Нишетта!..»
В ответ ей он написал, что слабость Эдмона еще требует его дружбы, но что как только выздоровление выразится заметнее, он немедленно приедет в Париж.
Мы забыли сказать — впрочем, нет надобности и говорить об этом, — что Эдмон, найдя у своей постели Густава, благодарил его от души и благодарил Бога за эту третью привязанность.
Мы сказали в предыдущей главе, что уже опасаться было нечего; острая болезнь миновала, и Дево действовал на недуг хронический.
Он предупредил больного, что три или четыре месяца ему придется не выходить из дома и что только при этом условии можно его излечить совершенно.
Эдмон покорился; да и кто не покорился бы на его месте? Больному позволили небольшие, обыкновенные для выздоравливающих развлечения.
Пока он не мог вставать, Елена находилась безвыходно у его постели, читая или работая, и, время от времени оставляя эти занятия, склонялась к нему головою, и Эдмон по целым часам ласкал ее, перебирая ее густые волосы.
— Я бы всю жизнь так провел, — говорил он ей. — Выше нет, мне кажется, счастья! Я на тебя смотрю, говорю с тобою — и весь мир для меня в этих двух словах. Зачем мне все остальное? Зачем нам другие небеса, другие люди? Мне только и нужно, чтобы в моей руке была твоя. Мать и ты, этот маленький домик, этот вид на недальнее расстояние, уединенная прогулка, иногда посещения или письма Густава — ведь это рай земной! Но ты — не согласишься на такую жизнь, Елена?
— Ведь я буду с тобой, мой Эдмон? Чего же мне еще надо?
— Глупцы — требующие Бог весть чего от жизни, вместо тихих радостей молодой и доверчивой любви! Твой отец обещает мне, что я еще проживу долго.
— Он тебя вылечит совсем. Тебе не будет приходить в голову эта несносная идея о смерти.
— Знаешь, как мы тогда устроимся? Купим мы в Швейцарии или в Италии небольшой беленький домик где-нибудь подальше, или на берегу одного из этих голубых прелестных швейцарских озер, или в лесу, чтобы он, как гнездо, скрывался между деревьями. Там мы поселимся с моею матерью. До того, что говорят, что делают другие, — нам не будет никакого дела: мы никого знать не будем. Счастье наше будет скрыто от завистливых глаз; мы будем наедине с природой и нашей любовью. Может быть, Бог нам даст детей: жизнь природы, любовь родителей разовьют в них сознание прекрасного и доброго. Потом, на одном из высоких, любимых солнцем холмов придет отдохнуть погоняющий стадо пастух, разглядит нашу скрытую в зелени могилу и скажет невольно: «Они были счастливы». Чего еще требовать от жизни и за чем нам гоняться?

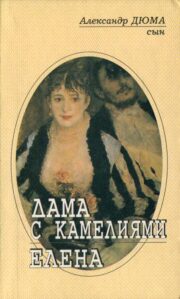
"Елена" отзывы
Отзывы читателей о книге "Елена". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Елена" друзьям в соцсетях.