Джузеппина сидела на табуретке рядом с постелью. Услышав шаги, она подняла лицо и, увидев, что это брат, молча залилась слезами.
– Недавно был священник, – прошептала сестра.
– Священник? Зачем? – не понял он.
– Для соборования.
Чезаре повернулся к монахине, которая хлопотала возле тумбочки, где выстроились склянки и бутылочки с лекарствами.
– Разве нельзя было позвать врача, кроме священника? – вскинулся он.
Лицо сестры Теотиммы, казалось, сморщилось еще больше и совсем исчезло в ее монашеском чепце. Круглые глазки выражали жалость и милосердие.
– Ее осматривал доктор Байзини. – Сестра подчеркнула со значением это имя, чтобы парень знал, что лучший врач в Ка Гранда, лучший в абсолютном смысле, то есть который лечит человека, а не болезнь, сделал все возможное для его матери.
– И что сказал доктор Байзини?
– Что все возможное для врача он сделал.
– И тогда вы подумали о священнике?
– Да. И позвала дона Филиппо.
– Священника призывают к тем, кто не может выздороветь. – Глаза его были сухи и рот пересох, но лоб повлажнел от пота.
– Никто не может знать наверняка, поправится человек или умрет. Бог, который дал нам жизнь, может и отнять ее. Но может и оставить ее нам, если наше время еще не пришло. Бог милосерден, и пути господни неисповедимы.
– Значит, только чудо может спасти ее? – сказал Чезаре, воспринимая это как приговор. – Для нас, бедняков, Бог редко творит чудеса.
– Не богохульствуй, – прервала его сестра Теотимма. – А разве то, что мы живем и дышим, не чудо?
– Однако моя мать умирает. Она больна и умирает.
– Я тоже умру, но не потому, что больна. Мы все когда-нибудь умрем. И это тоже чудо, что милосердный бог забирает нашу душу, чтобы дать ей вечную жизнь в небесной благодати. Твоя мать нуждается только в молитвах, которые послужат ей, если господь наш решит оставить ее с нами, или если пожелает избавить ее от страданий нашего мира. – Она говорила, как глубоко верующая женщина. Протянув свою высохшую руку с тонкими узловатыми пальцами, она поправила завернувшуюся простыню и добавила: – Все, что мы могли сделать для нее, мы сделали. Эту кровать я предоставила ей одной. Больную, которая лежала здесь, я поместила рядом с другой. У нас здесь страждущих много, а кроватей мало. Посмотри: на некоторых по два пациента.
Это была правда: на соседней кровати он увидел на подушке две головы; больные лежали, вытянувшись под одеялом, чтобы занимать меньше места.
– Простите, я был не прав, – сказал ей Чезаре.
– Двое больных на одной кровати – это непорядок, – продолжала сестра Теотимма. – Но как же выставить за дверь того, кто страдает? Вот и вас я впустила, хотя это не разрешается, – сказала она, отходя.
Чезаре повернулся к Джузеппине.
– Ты должна идти к малышам. А за мамой присмотрю я. Джузеппина наклонилась и слегка коснулась запавшей щеки матери.
– Меняй компресс каждые десять минут. Так ей полегче, – сказала она.
– Хорошо, – ответил Чезаре и занял место сестры.
– Вот увидишь, скоро она придет в себя, – утешила она его.
– Я сделаю все, что нужно. А ты присмотри за малышами.
Джузеппина повернулась и, горестно склонив голову, пошла к выходу. У дверей она обернулась, чтобы еще раз взглянуть на мать.
Оставшись один, Чезаре огляделся вокруг: болезнь и страдание были повсюду – на этих лицах и в стонах больных, в этом запахе и тусклом больничном свете. Давным-давно было запрещено класть больных по двое в одну кровать, но места всем не хватало, и правило по-прежнему нарушалось. Больнице Ка Гранда было уже четыреста пятьдесят лет. Она была построена для бедных еще герцогом Франческо Сфорца и его женой Бьянкой Марией Висконти, которые поручили архитектору Филарете осуществить этот проект. В течение веков сюда помещали тысячи больных чумой, сифилисом, тифом, которые по большей части отправлялись отсюда на тот свет. В давние времена в ее просторном дворе устраивались рыцарские турниры и партии в мяч.
Теперь многое изменилось: медицина делала успехи, появились замечательные врачи, как доктор Карло Байзини, «врач бедняков». Но страдания и смерть оставались вечным уделом человека.
Чезаре погладил шершавую руку матери и почувствовал, как отчаяние охватывает его. Когда кого-то привозили в Ка Гранда на носилках, надежд было мало. Что бы ни говорила монахиня, которая слепо верила в божественное провидение, что бы ни говорила она о неизбежности смерти для каждого, невозможно было смириться с этой ужасной мыслью, что он может потерять мать. На уголке простыни была метка больницы: голубка, которая держит в клюве ленту с девизом: «Хвала милосердию». Голубь – Коломбо. И фамилия эта давалась всем детям-подкидышам, которых больница принимала и выхаживала. Коломбо была фамилия матери, а значит, и его предков с материнской стороны.
– Коломбо, – произнес он громко, сам не замечая этого.
– Чезаре, – позвала его мать ясным голосом.
– Мама. Как себя чувствуешь? – Вопрос был глупый, что и говорить, но ничего другого на ум не приходило.
– Почему ты сказал «Коломбо»? – спросила она, точно продолжая прерванный разговор.
– Потому что я увидел голубку на простыне.
– И моя фамилия Коломбо.
– Не разговаривай, – забеспокоился он. – Ты устанешь.
– От разговора не устанешь. И меня зовут Коломбо, – прошептала она с задумчивым видом, – как всех детей из этой больницы.
– Просто совпадение, мама. – Ему хотелось узнать, почему, но он боялся, что она утомится, рассказывая.
– Нет, не совпадение, – сказала мать, как-то даже приободрившись, окрепшим голосом. – Твой дедушка был сыном этой больницы. Он получил свою фамилию именно здесь, в честь этой голубки больницы Ка Гранда.
– Разве это так важно, мама? Ты устанешь.
– Важно, важно, – настаивала она. – Когда устану, я остановлюсь. Его мать, твоя бедная прабабушка, упокой господи ее душу, была крестьянкой в Караваджо. Часто она ходила собирать тутовые листья для шелковичных червей в рощу, принадлежавшую графам Казати.
– Поменять тебе компресс на голове? – прервал он, чтобы отвлечь ее.
– Делай что хочешь, но дай мне сказать. У этого графа Казати был взрослый сын. Парень во всем нормальный, но один глаз у него был больше другого, огромный, как у вола.
Поэтому его и прозвали Воловий Глаз. Молодой граф Казати скрывал свой недостаток под полями большой черной шляпы, которая закрывала ему пол-лица. Он был хороший юноша, но из-за этого глаза ни маркизы, ни графини, ни другие синьорины не хотели выходить за него замуж.
– Ты не хочешь передохнуть? – Чезаре взял алюминиевый стакан, стоявший на тумбочке. – Пить хочешь?
– Да, глоток воды. – Ей казалось, что она чувствует себя лучше.
Чезаре поднес стакан к ее губам, и она отпила немного.
– А теперь отдохни, – ласково уговаривал он.
– Для этого у меня будет много времени, сынок. – В палате погас общий свет, остались только несколько матовых лампочек. – Ты меня видишь, Чезаре?
– Да, мама.
– Тогда наклонись поближе, я говорю тихо. Этот молодой граф, такой добрый, но при этом несчастный, видя в своей роще в Караваджо ребят, всякий раз бросал им монетки. Девушки его избегали. Только твоя прабабушка имела к нему сострадание и по-христиански жалела его. Когда он здоровался с ней или заговаривал, она притворялась, что не замечает его воловьего глаза. В конце концов граф Казати влюбился в нее, а она в него. Они стали мужем и женой, не будучи повенчаны. Он был без ума от твоей прабабушки и хотел жениться на ней, но родные воспротивились этому. Когда родился твой дедушка, они подкинули его в эту больницу, а несчастную мать младенца отослали в монастырь прислуживать монахиням. Молодой граф Казати умер вскоре после этого на вилле, куда его заключили.
– Какой смысл вспоминать об этих несчастьях? – сказал Чезаре. Мать рассказывала ему какие-то сказки о его семье.
– Даже горе имеет смысл, если помогает понять, кто ты такой. Ты мог быть внуком графа Казати. Провидение так не судило, но все графы Казати на свете не могут помешать тебе иметь в жилах на четверть их кровь.
Если это в самом деле так, то тем горше была эта несправедливость, которая привела ее в эту палату Ка Гранда, чтобы умереть после тяжких трудов и лишений.
– Бывает, – сказал Чезаре, – что найденыши придумывают всякие чудесные истории о своих родителях.
– У твоего дедушки не было нужды выдумывать такие истории. Все, что я тебе сейчас рассказала, я слышала от него самого, а потом от своих кузин. Одна из них была монахиней в том самом монастыре в Караваджо, куда твоя бабушка была послана в услужение.
– А теперь отдохни. Как ты себя чувствуешь?
– Устала, словно работала целые сутки. Все кости ноют, голова болит.
– Но тебе было хуже, – сказал Чезаре, чтобы ободрить ее. – Поначалу ты даже не замечала, что я здесь.
– Мне кажется, я вернулась издалека, оттуда, где мне было хорошо, в тишине и в мире. Мне кажется, что я очень тяжело шла, чтобы дойти сюда. Я была уже на полдороге к той мирной тишине.
– Что ты говоришь?.. – воскликнул Чезаре. Ему казалось, что она опять начинает бредить.
– Только то, что я вернулась сюда с полдороги, чтобы поговорить об этом с тобой. Должна была покаяться в моей вине, в моих грехах.
– Ты? Мне? – В висках у него стучало, сердце яростно колотилось в груди.
– Сколько детей я родила в нищете, – простонала Эльвира. – И в нищете оставляю.
– Думай только, как бы поправиться. А нищета не вечна.
– Нищета – это рабство. Твой отец был уверен, что один сможет изменить нашу жизнь. Но это не так. В одиночку человек ничего не изменит. А нищета остается и плодит все новые несчастья. Твой отец умер, потому что мы были бедны. И я умираю, потому что мы бедны.
– Ты поправишься, – пообещал ей Чезаре.

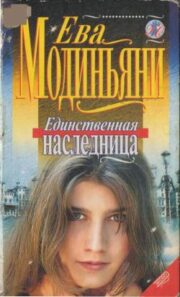
"Единственная наследница" отзывы
Отзывы читателей о книге "Единственная наследница". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Единственная наследница" друзьям в соцсетях.