Настоящее место человека, подобного Фрэнку Мюллеру, — на грани цивилизации и варварства. Слишком цивилизованный для того, чтобы обладать природными добродетелями диких, и дикарь, чтобы быть в состоянии постичь чувство меры, существующее в образованном обществе, он в одно и то же время имел качества и недостатки тех и других. Он был подвержен безграничному суеверию — отличительной черте характера диких, и совершенно лишен чувства милосердия — высшего проявления духа цивилизации.
Если бы он родился в благоустроенном государстве и сумел при помощи воспитания и путем отрицания нравственных начал отделаться от непонятного для него чувства страха перед сверхъестественным и усмирить бушевавшие в нем страсти, то, обладая сильным и недюжинным умом, сумел бы напомнить миру о временах Наполеона. Если бы он был более дик и более удален от влияния цивилизации, то в гневе своем мог бы попрать и стереть с лица земли народы, как Аттила или Чака. А между тем он постоянно находился под суеверным страхом грядущего бедствия, а потому всякий раз останавливался на полдороги, не в состоянии выполнить намеченной задачи.
Вот он, например, объятый ужасом, бешено мчится прочь от места ночного злодеяния, хотя сам же его замыслил и привел в исполнение. Вот он летит на вороном коне среди бури, как мрачный дух на крыльях ночи. Он не верит в Бога, а между тем в его душе зарождаются сомнения, перед ним вырастают кровавые призраки, призраки эти принимают определенные очертания и формы, простирают к нему руки и как бы твердят ему: «Мы посланцы грядущей Божьей кары!» Он поднимает глаза к небу. Высоко над ним молния рассекает грозовые тучи, а ему чудится, что она чертит на них Великое Имя, отдающееся в его сердце при каждом ударе грома. В ужасе он закрывает глаза, но и тут его преследует стук копыт лошади, в мерном топоте которых ему слышатся слова: «Есть Бог, есть Бог!»
И он мчится все дальше и дальше, не обращая внимания на бурю и мрак ночи, стараясь оставить позади себя то, от чего не в состоянии избавиться ни один человек.
Было около полуночи, когда Фрэнк Мюллер наконец остановился возле хижины, одиноко расположившейся на берегу Вааля. Место было совершенно пустынное, и оттуда не доносилось даже лая собаки.
— Если только эта скотина кафр куда-нибудь запропастился, — произнес он вслух, — то я запорю его до смерти. Хендрик, Хендрик!
В это время из-под его ног вынырнула какая-то фигура, причем так неожиданно, что испугала лошадь, которая чуть было не сбросила седока.
— Что это еще за дьявольщина? — вскричал Фрэнк Мюллер, нервы которого были потрясены до последней степени, вследствие чего он стал пугаться любой неожиданности.
— Это я, баас, — сбрасывая с себя плащ, отвечала фигура, оказавшаяся уже знакомым нам кривым знахарем, тем самым, который относил письмо Бесси. Знахарь этот служил уже в течение многих лет Мюллеру в качестве телохранителя.
— Чего же ты прячешься от меня? Я ведь знаю твои дьявольские проделки. Смотри у меня, — продолжал он, — как бы я в один прекрасный день не положил конец тебе и твоему чародейству.
— Мне очень жаль, баас, что я вас напугал, — плаксиво говорил знахарь, — но еще полчаса назад я знал, что вы едете. Я просто не понимаю, что такое творится в воздухе, но я ясно слышал, как будто двадцать человек гнались за вами. Я отлично различал стук копыт коней, сначала вашей вороной лошади, а затем и остальных. Вот почему я вышел из хижины и улегся на траве, и только когда вы подъехали, лошади остановились одна за другой. Должно быть, это были черти!
— Ну тебя с твоими дурацкими рассуждениями, — оборвал его Мюллер, причем зубы его застучали от страха и волнения, — бери лошадь и ступай вычисти и накорми ее. Она устала, а завтра мне снова придется подняться до рассвета. Погоди, куда ты девал свечи и настойку? Если ты ее выпил, я дух из тебя вышибу.
— Как войдете в комнату, баас, то тут же налево, на полке, найдете водку, мясо и хлеб.
Мюллер соскочил с лошади и вошел в хижину, одним ударом распахнув еле державшуюся на петлях дверь. Отыскав коробку шведских спичек, он принялся чиркать ими о поверхность ящичка и от волнения обломал несколько штук, прежде чем ему удалось зажечь сальную свечу грубой самодельной работы. Возле свечи стояли бутылка персиковой настойки, стакан и кувшин с речной водой. Схватив стакан, он налил в него настойки пополам с водой и залпом выпил все содержимое, затем принялся за мясо и хлеб. Но он был положительно не в состоянии есть от усталости, а потому решил подналечь на настойку.
— Да, — промолвил он, — настоечка, кажется, неплоха. Так и обжигает все внутренности. — С этими словами он вынул трубку и закурил ее.
Как раз в это время появился Хендрик и объявил, что задал лошади корму и что она может хоть сию же минуту снова отправляться в путь; он хотел еще что-то прибавить, но был остановлен хозяином. Мюллер вообще неохотно вступал с ним в разговоры и делал это тогда, когда хотел с ним посоветоваться или погадать о будущем. В настоящую же минуту его нервы до того расшалились, что он был готов беседовать с кем угодно, хоть с собакой. События ночи привели этого ужасного человека в состояние ребенка, чего-то испугавшегося в темноте. Некоторое время он сидел молча, а кафр между тем расположился перед ним на корточках. Но наконец винные пары взяли свое, и Мюллер пустился в разговор со своим чернокожим приближенным.
— Сколько времени ты там пробыл? — спросил он.
— Четыре дня, баас.
— Отнес мое письмо в усадьбу дядюшки Крофта?
— Как же, баас, я передал его в руки мисси.
— Ну, а она что?
— Она прочла его и затем прислонилась к колонне, вот так, — с этими словами кафр широко раскрыл рот и единственный глаз и постарался придать своей отвратительной физиономии выражение убитого горем личика Бесси, причем схватился за одно из бревен, поддерживавших покосившуюся хижину.
— И она поверила?
— По всей видимости.
— Ну а потом?
— Потом она спустила на меня собаку. Глядите! — И он показал незажившие следы зубов Стомпа.
Мюллер рассмеялся.
— Хотел бы я посмотреть, как он задал тебе таску, чернокожий обманщик. Да, девушка не глупа, нашлась-таки. Ну и что же, ты очень на нее зол и наверное хочешь отомстить?
— Конечно.
— Как знать! Может быть, тебе и удастся. Завтра утром мы туда отправляемся.
— Да, баас! Я знал это раньше, нежели вы сказали.
— Мы туда отправляемся и захватим усадьбу. Дядюшку Крофта придется судить военным судом за то, что осмелился выкинуть английский флаг. Если он окажется виновным, мы его расстреляем, Хендрик.
— Непременно, баас, — поддакнул кафр, радостно потирая руки, — а он точно будет признан виновным?
— Не знаю, — пробормотал Мюллер, поглаживая свою золотистую бороду, — это зависит от того, какой ответ даст мисс и как на это посмотрит суд, — прибавил он, немного помолчав.
— Как взглянет на это суд? Ха-ха-ха! — расхохотался злобный туземец. — Как на это посмотрит суд! И баас будет председательствовать на нем. Ха-ха-ха! Да тут не надо и колдовства, чтобы предугадать решение. А если суд признает дядюшку Крофта виновным, кому будет поручено его расстрелять?
— Я пока не решил; да собственно и не время еще об этом толковать. Впрочем, не все ли равно, кто бы ни привел в исполнение судебный приговор!
— Баас, — жалобно промолвил чернокожий, — я многое для вас сделал. Я в угоду вам не раз отваживался на преступление. Я произносил заклятия, составлял снадобья и выслеживал ваших врагов. Исполните и вы мою просьбу. Позвольте мне застрелить дядюшку Крофта, если только суд признает его виновным. Я давно уже заслужил награду.
— За что ты так желаешь ему смерти?
— Во-первых, за то, что он ударил меня однажды много лет тому назад за мое колдовство; а во-вторых, за то, что в последний раз выгнал меня из усадьбы. А кроме того, так приятно пристреливать белых людей. Конечно, — продолжал он, причмокивая, — я бы с большим удовольствием пристрелил бы мисси, которая напустила на меня собаку. Я бы…
Не успел заболтавшийся кафр оглянуться, как Фрэнк Мюллер схватил его за горло и что было мочи принялся трясти, нанося ему в то же время удары. Грубая выходка негодяя возмутила оставшееся еще в груди Фрэнка Мюллера чувство уважения к женщине, и хотя сам он не отличался высокой нравственностью, но зато был безумно влюблен в Бесси и никому бы не позволил непочтительно о ней отозваться, в особенности человеку, которого, несмотря на его знахарские способности, ставил ниже собаки. Возбужденный до крайности и к тому же полупьяный, Фрэнк Мюллер был просто страшен в эту минуту.
— Ах ты, животное! — вскричал он. — Если ты осмелишься еще хоть раз произнести ее имя, я тебя на месте задушу своими руками, не посмотрю на то, что ты колдун! — И он с такой силой швырнул его об стену, что вся хижина затряслась. Кафр упал и некоторое время пролежал неподвижно, а затем встал на четвереньки и выполз из комнаты.
Мюллер сидел насупившись и смотрел на лежащего слугу. После ухода кафра он встал, закрыл дверь и горько зарыдал, что, очевидно, следовало приписать совокупному действию многих причин, как то: винных паров, физического утомления, упадка духа и неостывающей страсти, — ибо ее едва ли можно было назвать любовью, — которая, как червь, беспрестанно точила его сердце.
— О, Бесси, Бесси! — бессвязно лепетал он. — Я все это совершил ради тебя! Неужели ты будешь зла на меня за то, что я убил их всех, чтобы овладеть твоей любовью? О, моя милая, ненаглядная! Если бы ты только знала, как я люблю тебя! Дорогая моя, дорогая! — И в припадке пьяной страсти он не заметил, как свалился на пол и продолжал плакать до тех пор, пока не заснул.
Несмотря на все свои злодейства, Фрэнк Мюллер нисколько не чувствовал себя счастливым, и надо думать, что для того, чтобы сполна наслаждаться незаконным счастьем, человеку недостаточно потерять совесть, но он должен также истребить в себе страсти. Место совести у него занимало суеверие, что же касается страсти, то она до такой степени овладела всем его существом, что одного появления девушки было достаточно, чтобы изменить самое дурное его расположение духа и породить в его сердце такие мучения, о каких она и не подозревала.

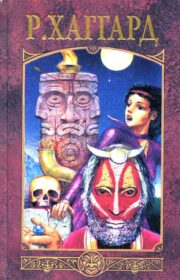
"Джесс" отзывы
Отзывы читателей о книге "Джесс". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Джесс" друзьям в соцсетях.