Я промахнулся, и крыса исчезла в отверстии в стене.
— Дева Мария и святой Иосиф! — испуганно вскрикнула Флосси. На пустом чердаке пистолетный выстрел больше походил на пушечный. — Что ты творишь?!
— На крыс охочусь, не видишь?
— Господи, да ты же пьян в дым, красавчик. Дай-ка мне пистолет.
— Конечно, Флосси… — И она положила пистолет на ящик, подальше от меня. Вся усыпанная переливающимися за окном звездами, она расстегнула блузку, сняла юбку и аккуратно сложила одежду в ногах кровати. Под юбкой и блузкой у нее ничего не было — ничегошеньки! Раздевшись сама, она стала раздевать и меня, но тут возникли какие-то люди, мужчины внесли станок, и женщины стали опорожнять клети с орехами.
— Давно мы с тобой не виделись, правда? — сказала Флосс.
— А по-моему, это было только вчера, Флосс, только вчера.
— Иногда и мне так кажется, Маркус, — иногда, но не сегодня…
— А для меня это всегда вчера, Флосс. В этом-то вся и прелесть.
— Нет, сегодня как-то по-другому…
— В каком смысле?
— Сегодня лучше, страсти больше.
— Да, сказочно…
— У меня такое бывает не часто.
— Такое ни у кого часто не бывает.
Крыса вернулась на свой наблюдательный пункт и вновь на нас уставилась. Пропитанный влагой воздух поднялся в небо и смешался с ночным ветерком. Станок застрекотал, и упоительная лента золотого орехового масла плавно заструилась из его челюстей. Скоро это масло будут считать банками, ящиками, штабелями.
— Красота, правда? — Флосси раскинулась на полу, на спине.
— Это один из самых изумительных продуктов, — сказал я. — Тайная субстанция жизни. Жаль, что алхимики о нем не знали.
— Кто такие алхимики? — спросила она.
— Ш-ш-ш-ш.
И Флосси, замолчав, сделала мне бутерброд с ореховым маслом — и мы справились с ужасом этой ночи.
Джек на веревочке
Джек шагает по Секонд-стрит, в Трое, на нем двубортный шерстяной костюм с начесом и коричневая велюровая шляпа. Слева от него — его адвокат, справа — законная жена, теперь он примерный семьянин, Кики осмотрительно припрятана в любовном гнездышке. Джек держит руки в карманах, а вокруг него суетятся репортеры. «Как себя чувствуешь, Легс?», «Заявление сделать не желаете, мистер Горман?», «Вы верите в невиновность вашего мужа, миссис Брильянт?»
— Это вы, ребята, во всем виноваты, — говорит репортерам Джек. — Я попал в переплет по вашей милости, сукины вы дети.
— Полегче на поворотах, ребята, — говорю я газетчикам, улыбаясь своей широкой ирландской улыбкой и сдерживая «ребят».
— На чем будешь строить защиту, адвокат? — интересуется у меня Проныра-Келли. — На алиби? Как на первом процессе?
— Наша линия — самозащита, — изрекаю я.
Защищаться самому, когда тебя обвиняют в киднеппинге?! Джек смеется. Преданная ему супруга смеется тоже. Смеются и журналисты. Смеются и что-то строчат в блокнотах. Шутка получилась что надо.
— Что вы думаете обо всем этом, миссис Брильянт?
— Я всегда буду на его стороне, — говорит Алиса.
— Отстаньте вы от нее, — говорит Джек.
— Верная жена никогда не бросит мужа в беде, — говорю я. — Потому она и здесь.
— Вот именно, — говорит Алиса. — Я — верная жена. И всегда буду ему верна, даже если его убьют.
— Не будем торопить события, — говорю я.
Над головой Джека-Брильянта громоздится мощное, с гранитными колоннами серое здание в неоклассическом стиле: Ренсселерский окружной суд. Маленький человек — большой суд. Под крышей свили себе гнезда птицы. На ветру развевается звездно-полосатый флаг. Входя внутрь, Джек задевает плечом стену, и сверху, с колонны, сыплется пыль.
Фотокор информационного агентства Патэ заметил и то, и другое и попросил Брильянта вернуться и войти еще раз. Но Джек не мог совершить один и тот же поступок дважды, ибо каждый поступок преувеличивал или преуменьшал как его самого, так и мир вокруг. Фотокорреспондент же хотел запечатлеть на пленку именно этот момент: прикосновение к стене и осыпающуюся пыль.
Поэтому, когда толпа прошла в зал суда, фотокор, человек, вне всякого сомнения, не лишенный творческой жилки, забрал из гардероба пиджак и шляпу Джека-Брильянта, надел и то, и другое на своего довольно субтильного ассистента и отправил его на лестницу потереться плечом о стену.
После чего фотокор информационного агентства Патэ заснял все это на пленку; когда же он снимал крупным планом пол, то обнаружил, что пыль, посыпавшаяся с колонны, была вовсе не пыль, а голубиный помет.
В переполненном коридоре, перед входом в зал суда, улучив момент, когда никто не держал Джека за локоть, парень, которого Джек видел впервые, подошел к нему вплотную и буркнул:
— Все равно никуда не денешься, Брильянт, пусть тебя хоть сто раз оправдают. Хочешь прямо сейчас получить свое?
Джек посмотрел на парня и засмеялся: лет девятнадцать, от силы двадцать два, на верхней губе пушок, неровная челка. Парень растворился в толпе, и Джек, которого я увлек за собой в зал, потерял его из виду.
— Боевой какой, — сказал он, сообщив мне об угрозе, которой подвергался. — Наемный убийца — сразу видно. Сосунок — получает-то небось гроши. — И Джек покачал головой с грустной улыбкой, словно сам признавал, как низко он опустился. За ним уже такая шпана охотится.
Но я заметил белое пятнышко на его нижней губе, маленькое бескровное пятнышко. Он с остервенением, еще и еще раз, кусал губу в этом месте, отчего лицо его ожесточилось, как будто он высасывал кровь из собственного страха, — чтобы угроза, если она будет реальной, не обескровила, не вымотала его. Странное это было мужество — не интеллектуальный, а скорее физиологический акт; словно это был совсем другой Джек-Брильянт, Джек, которого будут помнить за тело, а не за мозг; словно он повернулся спиной к пещере, полной неясных опасностей, и вглядывается в темноту поверх тусклого огня, в ожидании неведомого врага, чья тень сегодня ли ночью, завтра ли или послезавтра непременно ляжет на его беззащитный очаг.
К восьми часам вечера первого дня второго судебного процесса в Трое и обвинение, и защита полностью исчерпали свои возможности, и в конце концов был избран последний член суда присяжных. Это был автомеханик, который присоединился к двум фермерам, печатнику, инженеру, каменщику, лесопромышленнику, электрику, двум рабочим, коммерсанту и заводскому мастеру и вместе с ними образовал двенадцатиглавого судью Джека-Брильянта. Я попытался разбавить мужскую компанию, предложив ввести в состав жюри двух женщин, однако нежные чувства, которые питал к Джеку слабый пол, были слишком хорошо известны, чтобы идти на риск, и ни одна из моих кандидатур не прошла.
Главным обвинителем был некий Кларенс Нот, господин в безупречном сером «в елочку» костюме: пиджак с тремя пуговицами, жилет, серый галстук, цепь от часов, очки без оправы. Его тонкие губы, жидкие волосы, сухопарая фигура и голос без модуляций, который мог усыпить, но мог и внушить чувство незыблемой моральной правоты, являл присяжным немеркнущий образ свойственной штату Нью-Йорк неподкупности, американской добродетельности и стремления во что бы то ни стало доискаться истины. Нот говорил двадцать минут, монотонно перечисляя, в чем обвиняется Джек-Брильянт, которого он называл исключительно «Брильянтом». В своей вступительной речи он вкратце изложил собравшимся, как было совершено нападение на Стритера и Бартлетта, со смаком рассказывая, как Джек избивал старика, как грозился его убить, поджигал ему пятки и вешал на дереве, и от этих жутких подробностей присяжные морщились так, будто у них по лицам бегали тараканы. У одного присяжного предательски задергалась щека, у другого расширились от ужаса глаза, третий наморщил брови, а четвертый искусал в кровь губы. Попугав присяжных леденящими душу подробностями, Нот напоследок их поздравил.
— Вам повезло, — заявил он. — У вас есть шанс избавить страну от одной из самых ее страшных язв. У вас есть шанс засадить за решетку этого Брильянта, этого злостного негодяя, этого дьявола во плоти, которого арестовывали двадцать пять раз за все мыслимые и немыслимые преступления, от мелкого воровства до гнусного, жестокого убийства, который известен своими тесными связями с худшими людьми нашего времени и умение которого многократно, раз за разом водить правосудие за нос является несмываемым пятном на нашей национальной чести. Вы хотите, чтобы наша страна жила под дулом пистолета? Вы хотите, чтобы это исчадие ада держало в страхе всех добропорядочных людей? Вам, двенадцати присяжным заседателям, дано раз и навсегда покончить с этой фантасмагорией и препроводить преступника в тюрьму, где ему самое место.
Нот весь дрожал от бешенства; он хватил кулаком по перилам, за которыми разместилось жюри присяжных, после чего прошел на свое место и в облачке праведного гнева опустился на стул.
После этого поднялся со своего места я. Вот какие мысли роились в этот момент у меня в мозгу:
«О, самодовольная жердь, благодарю тебя за то, что ты осквернил моего подопечного своими фекальными разоблачениями, непристойной дрожью своей пугливой морали, ибо теперь ты предоставляешь мне возможность омыть залитое нечистотами лицо, дабы мир узрел человеческий облик под осквернившей его зловонной жижей».
Я намеренно старался произвести впечатление «своего парня» и оделся так, как одеваются рабочие по праздникам, чтобы показать, что «и мы не хуже людей». Я теребил галстук-бабочку и то и дело запускал пальцы в свою растрепанную шевелюру, которая, я слышал, может быть ничуть не менее красноречивой, чем то, что скрывается под ней. Итак, в моем распоряжении имелась львиная грива, на чем, впрочем, мое сходство со львом кончалось. По такому случаю я надел ярко-красный жилет, который живо контрастировал с моим бежевым твидовым пиджаком и неглажеными, пузырившимися на коленях брюками. Я запустил большие пальцы в кармашки жилета и привел в состояние боевой готовности главное оружие адвоката — его голос: веский тон убежденного в своей правоте, звонкая порывистость чистосердечия, величавые струны человека, задавшегося целью докопаться до истины любой ценой. Вот что я сказал:

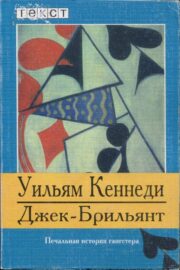
"Джек-Брильянт: Печальная история гангстера" отзывы
Отзывы читателей о книге "Джек-Брильянт: Печальная история гангстера". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Джек-Брильянт: Печальная история гангстера" друзьям в соцсетях.