Лью откинулся на спинку кресла и закурил сигару, которой до этого возбужденно размахивал: маленький, кругленький человечек с низким лбом, густыми черными волосами и вечной сигарой в зубах. Он изо всех сил строил из себя бродвейскую богему и то и дело, к месту и не к месту, сыпал хохмами типа: «Джеку Джонсону повезло с женой больше, чем всем негритосам, вместе взятым, включая Отелло».
В Катскилле Лью купил нью-йоркскую «Дейли миррор», пролистал ее в машине по дороге к Джеку и теперь резким движением (газета, как он объяснил впоследствии, была толстой и оттягивала карман) бросил ее на журнальный столик. Джек — почти машинально — раскрыл ее и в наступившей тишине пробежал глазами заголовки. Он перевернул, не читая, несколько страниц, отложил газету и сказал Лью:
— Какой болван поверит моим проповедям? Если хочешь знать, последний раз я в школе выступал — из Линкольна что-то читал. Ну какой из меня оратор, Лью?
— Я сделаю из тебя оратора, — сказал Лью. — Найду тебе учителей, будут тебя учить сценическому мастерству, речи, пению. Да через полгода твой голос на всю Америку прозвучит, вот увидишь. Я на Бродвее и не такое видал.
— По-моему, потрясающая идея, — сказала Алиса. Она встала с дивана и нервно прошлась по комнате.
— Знаешь, какая у тебя будет власть, Джек? — продолжал Лью. — Черт возьми, мы сможем даже новую американскую церковь основать. Акции в ней продавать. Я сам первый куплю. Такой человек, как ты, раскроет Америке глаза на то, что такое рэкет, посвятит людей во все перипетии тайной жизни страны. Господи, да меня и сейчас дрожь берет, как представлю, что ты им рассказываешь. Учишь этих сосунков уму-разуму. Божьему слову. Что б ты ни говорил, они каждому твоему слову поверят. Ты им такое нарасскажешь, что они в обморок попадают. Я тебе целую компанию писак соберу — они тебя такими байками напичкают, каких Америка еще не слыхала. Будешь кормить людей их же собственным, доморощенным дерьмом. Скажешь им, что проник в их души и знаешь, что им нужно. Им же от тебя нужна правда, как можно больше правды. Ты что, не видишь разве, как эти провинциалы взахлеб читают все подряд про жуликов и убийц? Вещать будешь под органную музыку. «Звездный флаг»,[50]«Святой, святой, святой».[51] Знаешь, что говорил Оскар Уайльд? Американцы, говорил он, любят героев — особенно дутых. Ставлю двадцать против одного, что о тебе фильм снимут. Может, даже в конгресс выберут. Ту будешь звездой, Джек, стопроцентной американской звездой, черт возьми. Ну как, впечатляет?
Джек не успел даже рта раскрыть, как Алису «понесло»:
— Джон, это же потрясающе! Ты о таком и помыслить не мог. А ведь ты справишься. Все, что он сказал, реально. Ты будешь великолепен. Я знаю, как ты умеешь говорить, когда заведешься, — у тебя получится, еще как получится. Ты ведь актер, сам знаешь, ты же играл в школьном театре… Господи, это именно то, что тебе надо.
Джек закрыл газету и сложил ее. И положил ногу на ногу, левую ногу — на правое колено. Взял сложенную газету и похлопал ею по подошве.
— Что, уже на гастроли собралась? — спросил он Алису.
— С тобой бы поехала.
Набожная. И любящая жена. Она и в самом деле верила, что Джек может все. Идея Лью импонировала ей и с чисто прагматической точки зрения: теперь она спасется от вечных мук. Посредством шоу-бизнеса?! Ну и что? Что же до звездной болезни, то, откровенно говоря, ею Алиса заболела всерьез. Впрочем, в этой звездной болезни не было ничего зазорного. Какая прелесть! Новая жизнь неудержимо влекла Алису. И новизну внесет в ее жизнь не кто-нибудь, а Джон. Ее Джон.
— Что скажешь, Маркус? — спросил Джек. Заметив на моем лице улыбку, он помрачнел.
— Прекрасно себе представляю, как ты вещаешь с амвона. Учишь нас жить, — сказал я. — Думаю, Лью прав. Дело выгорит. Народ раскошелится ради того только, чтобы увидеть тебя в церкви, а уж если ты начнешь их души спасать, счет и в самом деле пойдет на миллионы. — И я рассмеялся снова. — И какую же мантию ты наденешь? Католическую или масонскую?
Видимо, я попал в точку. Джек засмеялся тоже. Он похлопал Алису по коленке свернутой газетой и бросил ее перед ней на журнальный столик. Я почему-то хорошо запомнил, как газета упала на стол и раскрылась, — впрочем, слухи, скорее всего, дошли бы до Алисы в любом случае и без этой злополучной газеты. На беду, совершая свою миссию во славу американского евангелизма, мы, сами того не подозревая, пронесли в дом Джека бомбу огромной разрушительной силы.
— Пошутили, и хватит, — сказал Джек, вставая.
— Ты что? — обиделся Лью. — Я и не думал шутить.
— Скажу «да» — а ты меня потом в какой-нибудь бродвейской пивной на смех подымешь.
— Джек, — сказал Лью, изменившись в лице, — пойми, я совершенно серьезно. И я никому ничего не говорил — только Маркусу и тебе с женой. Никому на свете.
Джеку достаточно было бросить мимолетный взгляд на его побледневшее лицо, чтобы убедиться: Лью его разыгрывать не собирается.
— О’кей, Лью. О’кей. Верю. Спасибо тебе за предложение, но это не для меня. Не спорю, на этом, пожалуй, заработать и можно, но мне такое дело — не в жилу. Я себя при одной мысли об этом стукачом чувствую.
— Ты же не будешь называть имен, Джек. Никто не требует от тебя, чтобы ты называл имена. Твое дело — истории рассказывать. Истории из жизни.
— О том и речь. Сосункам истории из жизни не рассказывают.
Алиса взяла газету, медленно, тщательно свернула ее в жгут и похлопала себе по ладони, точно полицейский — жезлом. Казалось, она собирается ударить этой газетой Джека по носу. Прощайте, поездки по стране. Прощай, семейный алтарь Брильянтов. Отпущение грехов откладывается.
Глядя на нее в этот момент, видя, какое разочарование она испытывает, я убедился, что, в сущности, Алиса знает Джека не так хорошо, как я думал. Да, лучше нее Джека не знал никто, но и она не отдавала себе отчет в том, насколько он себе верен. Про себя она считала его мошенником — с головы до пят, от мошонки до душонки.
— Это было бы здорово, Лью. — Джек тоже поднялся с дивана и стал ходить из утла в угол. Обрадовавшись, что все уже позади, он сам начал развивать эту тему: — Чертовски здорово. Совершенно новое дело. И потом, во мне есть актерская жилка, я знаю. Да, получилось бы неплохо, но долго я бы этим заниматься все равно не смог. Я бы в этот образ не вошел.
Алиса вышла из комнаты, прихватив газету с собой. В свернутом виде она и впрямь напоминала полицейскую дубинку. На кухне меня не было, но я вижу, как она садится к столу, разворачивает газету и начинает читать. С раздражением перелистывает страницы, не видит ни заголовков, ни фотографий, ни слов. Колонка Уинчелла[52] привлекает ее внимание только потому, что Уинчелла читают все. Алиса, собственно, и не читает. Перед глазами пляшут черные буковки, она же думает о том, как будет пересаживаться с поезда на поезд: Омаха, Денвер, Бостон, Таллахасси, как будет разносить по стране слово Бога и Джона, как будет стоять в кулисах, держа в руках мантию своего Джона, как будет поить его чаем — чаем, а не виски, как будет стирать ему носки, отвечать на его письма, выпроваживать репортеров. «Проклятье, проклятье, проклятье», — думает про себя Алиса — и замечает в колонке Уинчелла свое имя.
А в гостиной, стоя на своем лиловом турецком ковре, на фоне обтягивающего стены голубого шелка, того самого, который он украл из товарного вагона восемь лет назад, Джек рассуждал о том, что не умеет лицемерить.
— Тебе, должно быть, странно от меня это слышать, Лью?
— Ничуть, Джек. Я понимаю.
В глазах Лью я тоже прочел тоску: идея ценой в миллион таяла на глазах в дымке очередной бродвейской химеры.
— «Лицемер»?! Что он нес, черт побери?! — недоумевал Лью на обратном пути. — Как будто я не знаю, кто он такой!
— Он не то имел в виду, — возразил я. — Он знает, что ты знаешь, кто он такой. И не только ты один. Просто то, что он делает, он вовсе не считает лицемерием.
Лью покачал головой:
— Одним недостатком меньше — уже хорошо.
И Лью туда же. Однобокий взгляд. Злодеи, мол, честными не бывают. Слушая Джека, мы не понимали самого главного: он находится на перепутье, и, если все пойдет так, как он задумал, он перестанет разрываться между двумя крайностями и его жизнь станет единым целым. Может быть, Джек действительно считал, что поступает честно, уйдя в тень, поддавшись на уговоры Алисы стать частным лицом, сельским жителем, семьянином, домохозяином, мужем. Такое поведение и навело Лью на мысль, что, если Джек хоть какое-то время в этой роли продержится, из него получится отличный американской проповедник.
Однако план Лью сделать из Джека святого был обречен на неудачу в той же мере, в какой был обречен на неудачу план самого Джека вернуться в лоно семьи. Джек ведь был существом общественным, не сельским жителем, а городским хлыщом, не домоседом, а квартирантом, не супругом, а сожителем, не американским святым, а ненасытным вымогателем. («Хер с ними», — сказал он, когда я рассказал ему о «комитетах бдительности» Уоррена ван Десена.) К тому же личность его была не суммой всех этих жизненных укладов, а их сплавом.
И Джек дал нам это почувствовать. Пожав нам руки, он, по-прежнему в рубашке с засученными рукавами и в домашних туфлях, проводил нас до двери, извинился, что не выйдет на крыльцо — «не хочу быть мишенью», и поблагодарил за то, что мы развеяли его послеобеденную скуку.
Скучать ему в тот день больше не пришлось.
Вот что писал Уинчелл в своей колонке криминальных сообщений: «Рабочие сцены в чикагском варьете, где Кики Робертс под именем «Дорис Кейн» танцует в мюзикле «Взлети до небес», могут проверять часы по телефонному звонку, который раздается каждый день ровнехонько в половине восьмого вечера. Думаю, вы уже догадались, кто это звонит… Джек-Брильянт, кто ж еще».

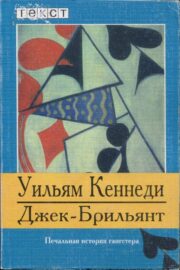
"Джек-Брильянт: Печальная история гангстера" отзывы
Отзывы читателей о книге "Джек-Брильянт: Печальная история гангстера". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Джек-Брильянт: Печальная история гангстера" друзьям в соцсетях.