Не в силах переносить утробные звуки, которые издавал Джон, Алиса как-то ночью поднялась с постели и обнаружила, что в комнате горит свет. Последнее время, правда, Джек не скулил, а скорее рычал и что-то возбужденно бормотал, как будто ему приснился дурной сон. Он лежал на полу, куда скатился с дивана, и целился из пистолета в японскую вазу.
— Ты хочешь расстрелять розы, Джон?
Он уронил руку, и, подождав с минуту, она забрала у него пистолет, помогла ему лечь обратно на диван, а затем встала перед ним на колени — как была в одной ночной рубашке, без халата, в прозрачной шелковой рубашке, сквозь которую видна была она вся, все ее пышное, податливое естество.
— Не могу я больше спать, — сказал Джек. — Только закрою глаза, как вижу мать: кричит во весь голос; вздохнет — и опять кричит.
— Все будет хорошо, парень. Все обойдется.
И тут Алиса привстала с колен, однако садиться не стала и, расставив ноги, подалась вперед — ужасно неудобная поза, вспоминала она впоследствии. Ей было неудобно, зато Джон мог видеть ее всю — и не только видеть, но ощущать: и локтем, и бедром, и неповрежденной ногой. И рука у него тоже теперь была свободна. Сначала Алиса прочла «Отче наш» — пусть ощутит не только ее близость, но и близость Господа, а затем пристроилась так, что тыльная сторона ладони Джека оказалась у нее точнехонько между ног. А потом чуть-чуть поерзала, чтобы он представил себе, где находится, даже если ничего не видит и не чувствует.
Имели ли эти телодвижения успех? Алиса обняла его рукой за шею и коснулась губами мочки уха. Он повернул руку и сжал пальцы в суставах. После чего, не без некоторой помощи с его стороны, шелковая ночная рубашка задралась в точном соответствии с требованием момента. Джон сказал, что Алиса пахнет, точно влажная от росы трава на рассвете, а Алиса сказала, что Джон пахнет, как щенок, маленький щеночек, — и, положив руки на то место, которое принадлежало каждому из них по праву, мистер и миссис Джон Брильянт уснули на диване в гостиной своего собственного дома. И проспали, не просыпаясь, до утра.
Когда Алису убили, она сидела на кухне в своей бруклинской квартирке и рассматривала вырезки из старых газет с фотографиями ее и Джека. На одной фотографии (таких у нее было семь) она сидела в больнице у его «одра». Сидит в шляпке, из-под которой выбиваются пшеничные локоны (тогда еще не крашенные, золотисто-каштановые, под стать волосам Кики, Тициановой красотки, щеголявшей на первых страницах бульварных газет; тогда еще не крашенные, шафрановые, чтобы с блеском сыграть роль Брильянтовой Вдовы). Она отлично смотрелась в облегающем сером твидовом костюмчике, который помог ей выбрать Джек. «Мой герой!» — вот что вывела Алиса на этой фотографии.
Хорошо представляю себе, как она сидит в своей последней кухне и вспоминает то, что было в больнице и потом, в Акре, когда Джек выписался и она возвращала его к жизни: натирала ему спину спиртом, водила гулять в лес, где за деревьями, впереди и сзади, маячила охрана, делала ему пунш, готовила мясную подливку, клецки и тапиоковый пудинг. Он никогда еще не был таким красивым. Брильянтовый мой! Герой! С первого дня нового 1931 года и вплоть до начала апреля он принадлежал ей, только ей. О божественное время! Такого не было — и не будет! Уйти от него после всего этого было горько, очень горько.
Алиса рассказала мне, что ушла от него на следующий день после того, как мы с Лью Эдвардсом нанесли им в идиллической Акре визит. Лью (сейчас его уже нет в живых) был бродвейским продюсером, который рос по соседству со мной в Северном Олбани, был импресарио большинства школьных спектаклей двадцатых годов, ставил также спектакли с участием Джин Иглз, Элен Морган и Клифтона Уэбба. Лью был знаком с Джеком, знал о моих с ним связях, и однажды у него родилась идея. Выслушав его, я сказал, что идея отличная, однако Джеку она может «не показаться». На это Лью сказал, что в любом случае попробовать стоит, и мы договорились встретиться на станции «Гудзон». Я приехал из Олбани, посадил его к себе в машину, мы перекусили в Катскилле, прошлись по улицам купить газет (лучше б мы их не покупали), а затем поехали к Джеку.
Первое, что бросилось нам в глаза, был припаркованный у обочины «паккард», где сидели двое рыжих молодцов, которых я видел впервые и которые периодически заводили мотор и выезжали на шоссе Кейро — Южный Дарэм посмотреть, не едут ли к Джеку незваные гости. Всякий раз, когда эта парочка отъезжала, другая, охранявшая веранду, приходила им на смену, садясь во вторую машину, а третья пара заступала тем временем на охрану веранды, подменяя вторую.
— Прямо как в Букингемском дворце, — заметил Лью.
Алиса ужасно мне обрадовалась и запечатлела у меня на губах сочный поцелуй. Сочный и ароматный. Яблочко наливное. Упоительная влажность — помнить буду тебя всегда. Впрочем, ничего такого она в виду не имела. «Привет, старина», — и только.
— Маркус, — сказала она, поздоровавшись, — он — молодец. Он никогда так хорошо не выглядел. Сейчас он даже красивее, чем когда мы поженились, честное слово. Красивее и лучше. Во всех отношениях.
Она обменялась с Лью рукопожатиями, взяла меня под руку, отвела в гостиную и прошептала:
— Знаешь, Маркус, у него с ней все. Правда, все. После ранения они виделись всего один раз. Как-то она приходила в больницу, когда меня не было, — мне передали. Теперь ее больше не существует. Маркус, ты себе даже не представляешь, как мы чудесно жили все эти месяцы. Мы с ним так счастливы, как будто заново родились.
Алиса сказала, что Джек наверху — лег вздремнуть после обеда, и, пока она ходила его будить, Корделия, служанка, смешала нам два коктейля. Джек — он был в рубашке с засученными рукавами, в мешковатых домашних брюках и в шлепанцах — нетвердо держался на ногах и первые минуты смотрел на нас осовело, не вполне понимая, что происходит. Затем мы разделились на две группы: Джек с Алисой сели на диван, взявшись за руки и обложившись длинноногими кринолиновыми куклами, а мы с Лью — в мягкие кресла напротив, дабы засвидетельствовать безоблачное семейное счастье.
— Значит, по делу пришли, — сказал Джек, и Лью тут же пошел за своим портсигаром — чтобы было чем заняться. Джек познакомился с Лью пять лет назад, когда Лью, даже не подозревая, кто такой Джек, довольно бесцеремонно перебил его за стойкой бара. Кроме того, хотя к делу это и не относится, именно Лью вручил Джеку билеты на шоу с участием Элен Морган, ставшей одной из тайных пассий Джека. Он никак не мог взять в толк, что же в Морган «такого особенного», почему она его охмурила. Ему всегда хотелось вникнуть в тайну таланта, нащупать потайной ключ к успеху. Об Элен Морган он говорил даже в ночь перед смертью.
— У меня есть богатая идея, Джек, — начал Лью, засовывая сигару в рот, но не закуривая ее. — Идея на миллион.
— Такие идеи я приветствую.
— И ты целый год пальцем о палец не ударишь.
— Хорошо бы.
— Да, было бы неплохо, — согласилась Алиса.
— Ведь ты, насколько я понимаю, считаешься, уж прости, самым закоренелым преступником на Восточном побережье, верно?
— Почему же преступником? Я закон не преступаю, — отозвался Джек. — Действую, как умею.
— Разумеется, Джек, разумеется, — поправился Лью. — Но ведь многие все же считают тебя преступником, да?
— Да, пресса у меня неважная, с этим не поспоришь.
— В данном случае чем хуже пресса, тем лучше, — сказал Лью. — Чем больше людей считают тебя отпетым подонком, тем легче нам будет сделать из тебя звезду.
— Да он и без того звезда, — вставила Алиса. — Большая, даже слишком.
— Ты имеешь в виду бродвейскую звезду? — уточнил Джек. — Напеть мелодию я могу, но до Морган мне далеко.
— При чем тут Бродвей? Речь идет обо всей Америке. Я сделаю из тебя самую большую знаменитость после Билли Санди и Эйми Семпл Макферсона. Ты будешь евангелистом, проповедником.
— Проповедником? — переспросил Джек и только присвистнул.
— Как это проповедником?! — Алиса так удивилась, что даже привстала с дивана.
— Ты уж прости, но в этой стране твое имя знают сто миллионов человек, и все они считают тебя большим сукиным сыном. Это соответствует действительности или я ошибаюсь?
— Дальше, — отрезал Джек.
— Так вот, этот сукин сын, этот подонок и негодяй, этот бутлегер и главарь банды становится другим человеком. Перерождается. Начинает вести правильный образ жизни. А спустя год он слышит голос Святого Духа. Целая стая объятых пламенем голубков, будь они неладны, или каких-нибудь других птичек, что слетают с небес на обращенного, проникают в его душу, и он становится апостолом, Божьим посланником. Он начинает гастролировать по стране — навар, правда, от этих гастролей у него поначалу невелик. Мелкий торговец духовными ценностями — вот кто он такой. Просто-напросто человек, который всей душой предан Господу и противостоит сатане и его проискам. Говорит он с каждым, кто готов слушать его полчаса не перебивая. Пресса тут же берет его в оборот и хоть и обращается с ним, как с городским сумасшедшим, но держится за него обеими руками — это ведь сенсация. Кто это там собрался в Дамаск?[49] Словом, обычная история. Он же ведет себя как паинька: ни тебе джина, ни денег, ни девочек. Его теперь только одно заботит: как донести до народа слово Божье. А народ? Народ за билет на его лекцию детей своих продать готов. Билетов днем с огнем не сыщешь, и скоро тебе — ему, в смысле, — дают лучшие залы, но и они набиты битком, стоячих мест и тех нет. Типичный американский психоз. Потом до него доходит Божье слово, что негоже ему выступать в театрах с актерами этими грешными. Надо в церквях вещать. Церкви же, естественно, пускать его не хотят. Обращенный дьявол — тот же дьявол. И жулик. Занимается шоу-бизнесом, не иначе. Поскольку в церковь его не пускают, ему поневоле приходится выступать на стадионах, и вместо шестисот человек его слушают теперь тысяч двадцать, в результате он попадает на Янки-Стейдием, где забиты проходы, играет оркестр, его окружают четыреста новообращенных, у него лучший в городе агент по печати и рекламе, и за свои выступления он получает миллионы, не будучи чемпионом мира по боксу. Думаешь, это все? Ничуть не бывало. Это только начало. Он строит свой собственный храм, в который послушать его стекаются люди со всего света. Затем, на вершине славы, он путешествует: Париж, Лондон, Берлин… Ну да, и Рим.

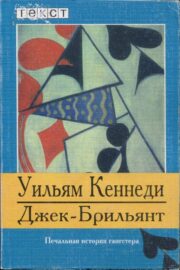
"Джек-Брильянт: Печальная история гангстера" отзывы
Отзывы читателей о книге "Джек-Брильянт: Печальная история гангстера". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Джек-Брильянт: Печальная история гангстера" друзьям в соцсетях.