— Но вы ведь сказали, что это дело рук Мюррея, разве нет?
— Так Бьондо говорит, но он сказал, что Джек знал об этом.
— Мало ли, что сказал Бьондо.
— Вот именно. Джеку Чарли Нортреп нравился, я точно знаю. Он тогда пустил в спину Джеку струю пива, и Джек вечером мне сказал: «Если б я его так не любил, ему бы не поздоровилось». Все почему-то думают, что Джек злой, а он ведь ласковый, добрый, мухи не обидит. Джек — настоящий джентльмен, более нежного, ласкового я не встречала — а встречаться мне довелось со многими, уж вы мне поверьте. Были и хорошие, а были такие… Я сама видела, как они с Чарли Нортрепом разговаривали, как гуляли во дворе, на ферме. Сразу видно было, что Джек его не обидит. Врут эти газеты, я-то знаю.
— Они гуляли и разговаривали до или после того дня, когда мы встретились в горах?
— После. Через пять дней. Я считала дни. Я всегда считаю дни. На ферме у Бьондо. Джек сказал, что нечего мне в горах сидеть, это, мол, слишком далеко, и переселил меня на несколько дней на ферму.
— Как насчет обеда?
— На ферме? Мне Джесси готовил. Старый негритос, тот самый, который самогон гонит.
— Вы меня не поняли. Сейчас мы обедать пойдем?
— А, сейчас. Я готова, только платье надену.
Кики закрыла врата любви и встала.
— Знаешь, — сказала она, — а ты мне нравишься. С тобой можно разговаривать. Только не подумай чего такого.
— Ты хочешь сказать, что мы друзья?
— Именно это я и хотела сказать. А то, бывает, скажешь человеку хорошие слова, а он с приставаниями лезет…
— А я тебе нравлюсь, потому что не пристаю?
— Потому что собирался пристать и не стал, а возможность у тебя была лучше не придумаешь.
— А ты проницательная.
— В смысле?
— Смотришь в корень.
— Я смотрю не в корень, а как на меня смотрят, только и всего.
— Ты, я вижу, в людях разбираешься.
— Я сразу поняла, что с тобой можно иметь дело. Когда с тобой говоришь, себя куклой не чувствуешь.
Пока мы с Кики сидели в ресторане, Тони (Малыша) Амаполу уложили четырьмя выстрелами в голову и в шею, а затем утопили в реке недалеко от Хэкенсека. В газетах написали, что Тони был закадычным дружком Джимми Бьондо, а Бьондо — доверенным лицом Капоне, что не соответствовало действительности. В конечном счете сошлись на том, что Малыш явился «очередной жертвой очередной пивной войны», однако, на мой взгляд, Тони пострадал из-за неумения Джимми вести себя с дамами.
Дождавшись Джека, который вернулся около полуночи, я сел в машину и поехал в Олбани, не сообщив ему о своем решении поставить точку. Когда же на следующее утро я пришел в контору, мне передали, что звонил Джесси Франклин, который просил меня прийти к нему поговорить. Если бы Кики не обмолвилась накануне, что Джесси готовил ей, когда она жила на ферме, я бы вряд ли его вспомнил. Я позвонил ему, и оказалось, что живет Джесси в ночлежке для негров в Саут-Энде. Я предложил ему прийти в контору, но Джесси заупрямился, сказал, что не может, и спросил, не приду ли я. Мне никогда еще не доводилось встречаться со своими клиентами в ночлежке, и я согласился.
Размещалась ночлежка на первом этаже здания, где когда-то был извозчичий двор; в комнате стояло с десяток коек, из них заняты были лишь две; на одной лежал и что-то хрипло и бессвязно бормотал пьяница в белой горячке, а на другой восседал издали похожий на скорбную бронзовую статую Джесси, старый негр с усталым лицом и курчавыми седыми волосами. Одетый в затасканный комбинезон, он сидел на кровати, уставившись в пол, где, вокруг его грязных башмаков, резвились здоровенные тараканы. Джесси жил в ночлежке уже фи недели, выходил только купить себе поесть, а потом возвращался обратно, спал и ждал.
— Вы помните меня, мистер Горман?
— Вчера вечером мы как раз говорили о тебе с Кики Робертс.
— Красивая дамочка.
— Да, в этом ей не откажешь.
— Она не видела того, что видел я. То, что видел я, никто не видел. Я хочу рассказать, что я видел. Вам рассказать.
— Почему мне?
— У меня есть деньги. Я могу заплатить.
— Верю.
— Своих ребятишек-то я отправил, а вот сам уезжать не хочу. Не знаю куда. То есть я, конечно, могу вернуться обратно на ферму, к мистеру Джеку, но туда я возвращаться не хочу. После того, что я видел, я туда в жизни не вернусь. Боюсь я этих людей. Я знаю, полиция меня тоже ищет, они спрашивали про меня у мистера Фогарти, пока его еще не посадили, а я с полицией дела иметь не хочу, вот и подался сюда, в Олбани, здесь ведь, я точно знаю, цветных хватает, а меня никто знать не знает. Я понимаю, деньги у меня скоро кончатся, и придется отсюда все равно сматываться, тут-то они меня и сцапают, как пить дать сцапают. Сижу я тут, думаю, что же мне делать, и тут вспоминаю, что у мистера Джека есть друг-адвокат в Олбани. Три недели я тут сидел и пытался припомнить ваше имя. И вот вчера этот старый пьяница входит и прямо передо мной на пол падает, вот здесь, где таракашки ползают, лежит, а у самого из кармана газета выглядывает, смотрю, а там ваша фотография и фотография мистера Джека. Вот он, тот, кто мне нужен, думаю, вот он. Джентльмен, которому это заведение принадлежит, дал мне ваш телефон, слова не сказал, я и позвонил, решил, может, вы мне поможете.
— Помогу, если смогу, но для этого я должен знать, что же произошло.
— Вам расскажу, а больше никому. Ни за что. То, что я видел, лучше не вспоминать. Часов в пять кончил я работу на кубе, солнце садится, только я решил голову приклонить, отдохнуть от трудов праведных, как слышу, машина к амбару подъехала. А окна мои на задний двор выходят. Смотрю: мистер Фогарти открывает двери амбара, мистер Фогарти, а с ним все остальные, кто с мистером Джеком обычно ездит, открывают, значит, они амбар, и машина прямо внутрь въезжает. Я такое первый раз вижу. Мистер Джек ведь в этом амбаре пиво держит, виски и не разрешает, чтоб там машины разъезжали — только грузовые, а я-то вижу, что это не грузовик никакой. Но Джесси не дурак, не его это дело говорить им, что нельзя в амбар на машине. Ладно. Заходит в дом мистер Фогарти, а потом он и мисс Кики с мистером Джеком уезжают. Смотрю в окно, вижу: в гараже свет. Никто оттуда не выходит, никто не входит — ну, думаю, свет и свет, не твое это, Джесси, дело, подумал и пошел опять лег. Только задремал — слышу опять машину завели, а видеть ничего не вижу — темно. Ладно, входит мистер Фогарти, берет старые газеты, много газет, и Джесси окликает: «Спишь, что ли?» — «Не сплю», — говорю, а он говорит: «Мистер Джек передал, чтоб ты сегодня вечером близко к амбару не подходил, понял?» — «Хорошо», — говорю, а почему не спрашиваю: Джесси не такой человек, чтобы мистеру Джеку и его друзьям вопросы задавать. Уносит, значит, мистер Фогарти газеты, проходит минут двадцать, слышу: опять мотор заработал. Сел я на постели и думаю: ладно, что сделано, то сделано, выглядываю из окна, смотрю, в гараже темно, окликаю мистера Фогарти, он не отзывается, никто вообще не отзывается, а я-то знаю: ребятишек моих все равно не дозовешься — спят как убитые, вот я и задумался: что ж это они такое в гараже делали? Думаю и ничего придумать не могу. А сам себе говорю: Джесси, говорю, ты должен знать, что здесь делается, ведь ты как-никак живешь здесь, а может, они такое задумали, к чему тебе лучше касательства не иметь? Беру я тогда фонарь, спускаюсь потихоньку по лестнице, выхожу, смотрю, в гараже и правда света нет, обошел вокруг — зайду, думаю, сзади — на всякий случай, если кто сторожит. Захожу: все как всегда, только на полу две-три газеты валяются, да тачка в углу стоит. И в леднике тоже все на месте, на стене тигровая шкура мистера Джека — висит как висела, на скамейке инструменты сложены. Все, короче, по-старому. И тут вижу: в углу ледника какой-то тюк лежит, только его увидел, сразу понял, раньше его тут не было. Свечу на него своим фонарем: похож на ковер, свернутый ковер, только это не ковер, это холстина, ею мы бочки с пивом накрывали, когда у нас крыша в первый раз потекла. Подхожу и толкаю тюк ногой — чувствую, внутри что-то твердое. Так я и думал. Тут Джесси волноваться начал: а что, если его с этой штукой засекут? Джесси сразу догадался, что там внутри, но решил, дай все-таки проверю. Ткнул ногой — на ощупь не совсем то, что я думал, тогда набрался я храбрости и рукой потрогал. Нет, вроде не то. Приоткрываю тюк с одного конца — хочу изнутри пощупать, поглядеть, что же там такое внутри, — а оттуда голова взяла вдруг и выпала. Сама по себе, без тела. Выпала, откатилась чуток и замерла… Как я жив остался, сам не знаю. Кинулся опрометью из этого амбара, бегом к себе наверх — и скорей под одеяло: прикинуть, что дальше делать. Лежу и все думаю, думаю. А в доме тихо — никто не возвращается. Я сам себе и говорю: Джесси, говорю, если кто вернется, тебе не жить. Ведь голова-то лежит не там, где ей лежать положено, вот они и догадаются, что кто-то из дому вышел и в тюке копался. Догадаются, придут сюда и скажут тебе: «Джесси, — скажут, — ты зачем это в амбар ходил и с головой баловался?» И что ты им тогда скажешь, старинушка? Ладно, встал, спускаюсь вниз, иду в гараж, и больше всего на свете боязно уже не головы этой, а того, что, не дай Бог, фары дорогу осветят… Хоть и боязно, а себе я сказал: «Джесси, — сказал, — тебе надо пойти и положить голову обратно, туда, откуда ты ее брал». Иду я, значит, обратно в ледник, свечу фонарем и вижу: лежит голова в трех футах от тюка и на меня смотрит. Гляжу я на это лицо, во все глаза гляжу, а узнать не могу, да и никто бы на свете это лицо не узнал, потому как изувечено оно до того, что и лицом-то его не назовешь. Не лицо, а котлета рубленая. Жалко мне стало беднягу — досталось ему крепко, очень крепко. Но я сказал себе: «Джесси, — сказал, — будешь этого парня жалеть, когда к себе в комнату вернешься. А сейчас, чем жалеть, запихнул бы голову обратно, где она лежать должна». Что делать, беру я эту голову, приподымаю холстину, чтобы ее обратно положить, а там… Боже правый, да там две руки и нога рядышком лежат — у живого разве ж такое бывает?! Заглядываю внутрь и глазам своим не верю: он, бедолага этот, прости Господи, на десять — пятнадцать частей разрублен! Как увидел — в глазах помутилось, сейчас сам ноги протяну, думаю. Сунул я его голову туда, где ей быть положено, и тюк перевязал. Потом весь пол осмотрел — не оставил ли я где следов крови, но нет, вроде бы не оставил. И они тоже не оставили — небось все газетами подтерли, теми самыми, что мистер Фогарти в доме брал. Не приведи Господь такое увидеть! Вышел я из ледника и иду обратно в дом. Теперь-то уж, думаю, меня не найдете, ни за что не найдете: все лежит, как лежало, когда я туда первый раз вошел. Но меня теперь другое заботило: как бы себя да ребятишек своих из этой мясорубки вызволить? Сейчас-то, прикидываю, бежать мне никак нельзя, а то они сразу догадаются, что я что-то такое знаю, чего знать не должен. Лежу я в кровати и раздумываю, когда же можно будет мне с моими мальчишками ноги отсюда унести? А еще раздумываю, куда нам податься, ведь такой работы, как здесь, у нас сроду не было. Но меня не так работа волновала, как то, что я могу в тюрьму угодить, — что тогда мои ребята без меня делать будут? Никак эти мысли у меня из головы не шли, как вдруг слышу, опять машина во двор въезжает, смотрю — это мистер Мюррей и кто-то еще, я не разобрал кто; въезжают они в гараж, только не на легковой, а в грузовике. Минут пять внутри побыли, выехали, дверь закрыли — и до свидания, только их и видели. И не только их — соображаю, — но и этого несчастного, его они тоже наверняка с собой прихватили. Понять-то я это понял, но шагу в амбар не сделал, решил: уже светает, и никто в этот день Джесси Франклина в амбаре видеть не должен: ни мистер Джек, ни его люди, ни чужой кто, ни сам Джесси — ни одна живая душа. Джесси будет держаться от этого старого амбара подальше, пока туда кто-нибудь другой по делу не зайдет. А когда все уляжется, возьмет Джесси своих ребятишек и уйдет отсюда куда подальше. Нет, плохие они люди — разве ж хорошие станут так кромсать человека? Как, интересно знать, он, бедолага, теперь перед Господом в таком виде предстанет? Нет, нехорошие люди. Надо же такое с человеком учинить…

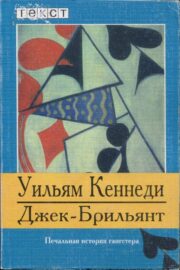
"Джек-Брильянт: Печальная история гангстера" отзывы
Отзывы читателей о книге "Джек-Брильянт: Печальная история гангстера". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Джек-Брильянт: Печальная история гангстера" друзьям в соцсетях.