В подавленном настроении Джек пребывал потому, что получил отказ плыть первым классом, — так, во всяком случае, казалось мне. Однако я ошибался: его заботили куда более серьезные вещи. Свою неспособность проследить ход его мыслей я объясняю тем, что он скрывал их и от себя самого. В конечном счете вывел его из себя Вейссберг. Начал он с вопросов, которые, при всей своей проницательности, мало чем отличались от тех, что задавали Джеку газетчики.
— Герр Брильянт, сеть ли в преступном мире люди с совестью?
— Я не знаю преступного мира. Я всего лишь бутлегер.
— Что вы думаете об умышленном убийстве?
— Стараюсь его избегать.
— Я знаю людей, которые украдут, но калечить человека не станут. Я знаю людей, которые могут искалечить, но не убить. И наконец, есть люди, которые могут убить — но под горячую руку, а не умышленно. Такова, по-вашему, моральная структура преступного мира?
Судя по всему, вопрос Джеку понравился. Возможно, он думал над ним много лет, но никогда не формулировал его так точно. Он подмигнул драматургу, который говорил, не выпуская сигареты изо рта; пепел падал, куда придется: на грудь или в шнапс, а иногда, когда Вейссберг шмыгал носом, — и на пол. «Наверняка позаимствовал эти повадки у представителей преступного мира», — подумал про себя я.
— Всегда найдется кто-нибудь, кто сделает грязную работу за вас, — глубокомысленно заметил Джек.
— Но каков ваш предел? Есть ли что-то, чего даже вы не сделаете?
— Не было такого, чего бы я ни сделал как минимум дважды, — ухмыльнулся Джек. — И сплю после этого, как сурок.
— Wunderbar![36] — Вейссберг откинулся на стуле и выбросил верх руки, словно желая этим жестом сказать: «Эврика!»
Все замолчали. Мы слушали вальсы Штрауса, пили «законный» алкоголь и следили за тем, как драматург, молча, с улыбкой, переваривает услышанное. Наконец он смахнул с губы то, что осталось от сигареты, и придвинулся к Джеку.
— С удовольствием бы написал пьесу о вашей жизни, — начал он. — Я хочу приехать в Америку и пожить с вами. Мне безразлично, что будет происходить в вашей жизни, и я не удивлюсь, если вы убьете меня, решив, что я доносчик. Я хочу видеть, как вы едите и дышите, спите и работаете, как вы торгуете спиртным, воруете, грабите и убиваете. Я хочу быть свидетелем всего этого и написать великую пьесу, и я все отдам вам: всю славу, все деньги. Я хочу только одного — воплотить свою старую мысль, что между великим художником, великой шлюхой и великим преступником есть сходство. От великого художника остается его творчество, великая шлюха живет в памяти благодаря колоссальной чувственной удовлетворенности, которая надолго переживет любовную связь. У любви — своя красота, у искусства — своя. Шлюха — это извращение любви, подобно тому как искусство — это изысканное извращение реальности. И для шлюхи, и для художника награда — это деньги и слава; чем больше славы и денег, тем выше награда. Но и великий преступник — это ведь тоже извращение, отклонение от нормы, это готовность переступить через самые высокие моральные барьеры (а что такое мораль для шлюхи, для художника?). И художник, и шлюха, и преступник целиком отдаются своей профессии. Все трое, добившись признания, отличаются от толпы изысканным стилем поведения. В самом деле, что отличает великого преступника от притаившегося в кустах бандита? Великую шлюху от рядовой потаскухи? Только стиль. Да, герр Брильянт, да! Две вещи — самоотречение и стиль! Эти две вещи делают вас великим, сделают меня великим! Вот почему мы пьем сейчас вместе в этом изысканном отеле, вот почему слушаем эту изысканную музыку, пьем этот изысканный шнапс!
Мой поросеночек, — продолжал он, повернувшись к своей шлюшке, которая не понимала ни слова по-английски и грудки которой были похожи на два жареных яйца, — ничего не знает про стиль и навсегда останется уличной девкой. Она — грязная женщина, и мне это нравится. Мне нравится платить ей, а потом выкрадывать у нее эти деньги. Мне нравится заражать ее своими болезнями, а потом платить ее врачу. Мне нравится выкручивать ей соски, пока она не закричит. У меня нет с ней никаких проблем, ибо она глупа и абсолютно меня не знает. Она даже представить не в состоянии, как ведут себя великие германские шлюхи. Со временем они тоже будут принадлежать мне. Но сейчас мой поросеночек — это моя услада, это именно то, что нужно юному организму.
Вы же, сэр, великий человек. Вы добились очень многого. Я вижу по вашим глазам, что вы преодолели все моральные и социальные барьеры, что вы не находитесь более в плену убеждений и догм. Вы умный человек, герр Брильянт. Вы живете умом, а не только улицей, где свистят пули и льется кровь. Я тоже живу и умом, и сердцем. Мое искусство — это моя душа. Это мое тело. Все, что я делаю, помогает моему искусству. Мы живем, вы и я, герр Брильянт, в высших сферах. Каждый из нас переступил через свое многотрудное «я». Мы с вами существуем в мире воли. Мы создали мир, перед которым мы можем встать на колени. Это я цитирую Ницше. Вы знаете Ницше? Он ясно говорит, что тот, кому надлежит быть творцом добра и зла, вынужден сначала быть разрушителем, вынужден ниспровергать ценности. Мы оба разрушали, герр Брильянт, вы и я. Мы оба ниспровергали отжившие ценности. Мы оба перешли в высшие пределы, где обитают сверхчеловеки, и мы всегда будем торжествовать над ничтожествами, что пытаются стащить нас вниз. Вы позволите мне жить с вами и описать вашу жизнь — нашу жизнь? Вы сделаете это, герр Брильянт?
Несколько секунд Джек молча разглядывал Вейссберга, его кустистые черные брови, из-под которых выглядывали горящие лихорадочным блеском глаза. Затем он подошел к столику графа и вернулся обратно с маленьким, 25-го калибра пистолетом, на который не обратил внимания ни один из двух десятков посетителей, убаюканных Штраусом, пальмами, колышущимися в кадках, и пьянящей нежностью первых за вечер бокалов. Джек подсел вплотную к Вейссбергу, так, что колени их почти соприкасались, и только тогда, разжав руку, показал драматургу пистолет. С минуту он молча держал пистолет на ладони, а затем, злобно прищурившись, с гримасой лютой ненависти, до неузнаваемости исказившей его лицо, опустил пистолет дулом вниз и выстрелил в траву, Вейссбергу прямо между ног, просвет между которыми был всего несколько дюймов. Поскольку выстрел был направлен в землю, а калибр пистолета был очень мал, к тому же звук выстрела заглушался штаниной Вейссберга и музыкой Штрауса, — никто не обратил на него внимания. Несколько человек, правда, повернулись в нашу сторону, но, поскольку сидели мы совершенно спокойно, никак не реагируя на происшедшее, собравшиеся в саду решили, что это разбился бокал. Джек же оставался совершенно невозмутим.
— Сосунок, придурок, — процедил он.
В следующий момент Джек уже стоял, пряча пистолет в один карман и вынимая целый ворох немецких марок из другого, чтобы расплатиться за выпивку.
— Мой очаровательный дурачок, — сказала грязная шлюшка, гладя усы Вейссберга, насквозь мокрые от слез. Насквозь мокрыми, впрочем, были не только его усы, но и брюки: юное дарование, представьте, обмочилось.
Джек уже два дня находился на грузовом судне «Ганновер», которое отплыло из Гамбурга и на котором он был единственным пассажиром, когда он впервые услышал какой-то мелодичный, но беспорядочный шум, доносившийся из-под палубы. Джек брел длинными коридорами, спускался по трапу и наконец обнаружил четыреста пятьдесят канареек, которые «Ганновер» вез за океан американским любителям пернатых. Стоило Джеку войти в их тюрьму, как желтые и зеленые уроженцы Гарца петь перестали, и он подумал: «Разнюхали они меня». Но Джек был не прав: обоняние у канареек хуже некуда, зато по части слуха и любви равных им нет. В птичьей тюрьме было влажно и душно, и Джек вспотел. Матрос, который кормил птиц, посмотрел на него и сказал:
— Птиц вот кормлю.
— Вижу.
— Если их не кормить — подохнут.
— Да ну?
— Жрут они будь здоров.
— По ним не скажешь.
— Я тебе говорю.
— Есть всем надо от пуза, — сказал Джек.
— Особенно канарейкам.
— Помочь тебе их кормить?
— Не. Ты им не подходишь.
— С чего ты взял, что я им не подхожу?
— Они знают, кто ты такой.
— Канарейки меня знают?!
— Видел, как они перестали петь, когда ты вошел?
— Я решил, они людей боятся.
— Людей они любят. А тебя — боятся.
— Засранец ты, — сказал Джек.
— От засранца слышу, — откликнулся матрос.
Джек открыл клетку и поманил канарейку. Она клюнула его в палец, он поднял птичку и обнаружил, что она мертва. Джек сунул ее в карман и открыл другую клетку. На этот раз канарейка молча вылетела наружу и взлетела на самую высокую клетку — без лестницы Джеку было до нее не дотянуться. Усевшись на клетку, канарейка повертела хвостом и нагадила на пол, прямо под ноги Джеку.
— Вот видишь, — сказал матрос, — они не хотят иметь с тобой ничего общего.
— Чем это я им не угодил?
— Спроси их. Если в музыке разбираешься, то сообразишь, что они говорят. Знаешь, почему они научились так хорошо петь? Потому что слушают флейты и скрипки.
Джек прислушался, но ничего не услышал. В птичьей тюрьме стояла тишина. Канарейка снова нагадила ему под ноги. «Мать вашу, птички!» — обругал Джек канареек и пошел обратно наверх.
От радиста Джек узнал, что он по-прежнему «новость номер один» и весь мир знает: в данный момент Брильянт пересекает океан вместе с четырьмястами пятьюдесятью канарейками, а труп Чарли Нортрепа до сих пор не найден. Как-то утром матрос, кормивший канареек, поднялся на палубу, и Джек обратил внимание, что он чем-то похож на Нортрепа: такая же напряженная линия губ, уголки рта приспущены, никогда не улыбается. Когда матрос поднял люк, Джек услышал птичье пение. Он подошел поближе — пение зазвучало громче, мелодичнее, и, прислушавшись, Джек ощутил вдруг свою несостоятельность. А какую песню пел он? И в то же время ему почему-то приятно было ощущать себя ничтожеством на этих бескрайних морских просторах, была в этом какая-то высшая справедливость; то, что сейчас пели канарейки, было гимном справедливости. Джек вспомнил, как приятно было слышать свист пуль, находиться на самом краю небытия, истинного небытия. Он вспомнил свои прикосновения к шелковой ляжке Кики, к твердому лбу Алисы: Да! Это было нечто! И гулкий окрик приказа. Да, такое не забывается. «Вылезай», — сказал он однажды ночью, на дороге в Лейк-Джордж черномазому шоферу грузовика, и черномазый, глупый черномазый, показал ему нож, и тогда Джек одним выстрелом прострелил ему голову. Когда Мюррей открыл дверцу, черномазый вывалился наружу. Власть! А когда они разделались с Оги — у Джека от радости даже сердце заныло. Бах! И нет! Бах! Бах! Фантастика! «Встань же смело на работу, отдавай все силы ей…»[37]

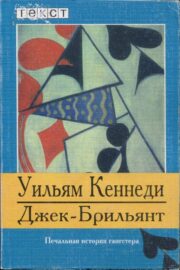
"Джек-Брильянт: Печальная история гангстера" отзывы
Отзывы читателей о книге "Джек-Брильянт: Печальная история гангстера". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Джек-Брильянт: Печальная история гангстера" друзьям в соцсетях.