– Значит, сегодня я помешал вам и расстроил ваше питье кофе? По-видимому, девушка больше не вернется? – сказал Вернер, выглядывая из окна башни вниз.
Глубоко внизу лежал садик, кругом была полная тишина; все живое спасалось от палящих лучей за каменные стены.
– Да, я тоже так думаю, что она больше не придет сюда: она слишком испугалась; только хотел бы я знать, чего именно она так перепугалась? Правда, она сторониться людей, но делает это обыкновенно незаметно. Не знаю, что с нею сегодня приключилось? У вас, господин Вернер, вовсе не страшный вид, – и с этими словами старик оглядел необыкновенно красивую и величественную фигуру молодого человека.
Вернер вынул из бумажника найденный рисунок карандашом и показал его Якову.
– Ах, это – покойная мать Линочки, она нарисовала ее на память, – сказал старик.
– Как? Неужели это нарисовала эта девушка? – воскликнул Вернер.
– Да, она отлично рисует. Она мне раз говорит: «Сядь-ка сюда, Яков! Вот луч солнца как раз падает на твою голову, я хочу тебя так нарисовать». Не прошло и четверти часа, как я вышел на бумаге, да так похоже, что даже все узнают, что это – я. Здесь, в монастыре, много лет жил старый художник; прежде он имел много работы, но потом просто вышел из моды и господа больше не давали ему заказов; так вот этот художник заметил, что у Линочки имеется талант к живописи; он показал ей, как надо писать картины, и вскоре она стала помогать ему разрисовывать пригласительные билеты на крестины или на похороны. Года два тому назад старый художник умер, его заказчики перешли к Линочке, и она теперь зарабатывает этим порядочные деньги.
Беседуя таким образом с Вернером, старый Яков закрыл несколько слуховых окон на башне, смахнул со своего сюртука и шапки пыль, вздымавшуюся при каждом шаге наверху, и спустился вместе с молодым человеком вниз. Разговаривая, они прошли несколько улиц и, наконец, остановились пред большим, довольно мрачным домом: это был дом Вернера.
– Знаешь что, дорогой Яков, ты теперь стал слишком стар, чтобы ездить верхом на купать лошадей; трясти яблони я могу сам – как видишь, у меня довольно сильные руки, но мне нужен мужской надзор за домом и садом, мне хочется иметь подле себя верное, честное лицо, которое мне напоминало бы мое счастливое детство. Если это устраивает тебя, старина, то переезжай со своей женой в мой надворный флигель. Я рад, что могу позаботиться о твоей старости. Тебе не воспрещается по-прежнему по воскресеньям посещать свою колокольню и со своей любимицей пить кофе в башне!
Яков смотрел на молодого человека и не верил своему счастью. Он был как во сне, и, схватив руку Вернера, бессвязно лепетал:
– Хочу ли я? Да с большой радостью! Только пустите меня скорее домой! Моя старуха от радости до потолка подпрыгнет, если ей это позволят ее старые ноги, и старик опрометью побежал по улице.
Вернер позвонил. У окна появилась немолодая дама в туго накрахмаленном белом чепце, с высокомерным выражением лица. Голова быстро скрылась и вслед затем, тяжело скрипя, открылись массивные, тяжелые ворота, какие бывают в старинных богатых домах.
Молодой Вернер был единственным сыном очень состоятельных и знатных родителей. Уже на пятнадцатом году он лишился их. Старый дядя, духовного звания, живший в отдаленном городе, сделался его опекуном и взял мальчика к себе. Там он получил превосходное воспитание. По окончании курса в университете, он отправился в Италию. У него был большой талант к живописи, и благодаря независимому состоянию он мог всецело посвятить себя искусству. Но после шестилетнего пребывания в чужой стране им овладела тоска по родине, и он вернулся обратно в Германию в свой родной городок, где провел счастливое детство, окруженный любовью и заботами матери.
В его отцовском доме во время его отсутствия проживала старая тетка – вдова; она поддерживала порядок, так что когда он вернулся, то нашел все, как было, только недоставало нежных материнских объятий и любовно смотревших на него глаз: они угасли и закрылись навеки.
III.
Чтобы попасть в квартиру «Стрекозы», надо было пройти через темный, с развалившимися постройками двор монастыря. Во флигеле направо была дверь с остатками красивой резьбы. В ней недоставало нескольких досок, и эти зияющие щели плохо гармонировали с огромным тяжелым замком и железными оковами, которые казались несокрушимыми. Эта дверь вела в погреб со сводами, в конце которого была кривая, головоломная лестница, которая, наконец, приводила в верхний этаж, где жила «Стрекоза» со своей племянницей. Однако, раз попав в их, хотя и тесную, но уютную квартирку, каждый забывал этот неприятный вход. Здесь все было светло и опрятно. Громадная кафельная печь, мебель из белого соснового дерева, чистые занавески на окнах – все имело приветливый вид.
У открытого окна с видом на вал сидела Магдалина. Пред нею стояла корзина с только что выглаженным бельем; наперсток на пальце и кусок полотна на коленях доказывали, что девушка занята починкой белья. Но иголка не двигалась в ее пальцах. Нельзя было не залюбоваться благородной красотой этой девушки, ее гордой осанкой, выразительным лбом над чудными глазами. Старомодный шкаф со стеклянными дверцами и зелеными занавесками был открыт. Книги теперь не стояли такими правильными рядами, как прежде, – время наложило на них свой отпечаток; видно было, что чья-то нервная рука под впечатлением быстрой мысли часто вынимала то одну, то другую из них и в беспорядке откладывала книгу обратно, но не на прежнее место.
Странно было видеть здесь, в этом отрезанном от всего мира уголке, эти произведения великих авторов, пред которыми преклоняется свет. Однако это объяснялось тем, что старый художник, занимавшийся с Магдалиной живописью, был разносторонне образованным человеком. Он первый обратил внимание девушки на эти сокровища, сокрытые в старом шкафу. Под его опытным руководством ее пытливый, пылкий ум усваивал прочитанное. Длинные зимние вечера незаметно проходили за чтением вслух под монотонный аккомпанемент прялки старушки. Магдалина жадно слушала чтение художника, он разъяснял ей непонятные места прочитанного. Этот непризнанный, забытый талантливый артист желчно относился ко многим явлениям общественной жизни и с горькой иронией говорил о богатстве и знатности, подчеркивая смешные стороны людей. Его слова встречали восприимчивую почву в сердце девушки и приносили плоды в этом горячем, чувствительном молодом уме, который, несмотря на молодость, уже много страдал от людской несправедливости. Таким образом, старик вводил девушку в мир высоких идеалов чтением великих писателей и в то же время развивал в ее сердце глубокое недоверие к людям и недовольство – качества, которые она, помимо влияния озлобленного неудачника, вынесла из собственного тяжелого одинокого детства.
Магдалина прислонила голову к оконной раме и так углубилась в свои мысли, что не заметила, как маленький листик с виноградной лозы влетел в комнату и запутался в ее волосах; не заметила она также своего любимца – дерзкого воробья, который у самого ее плеча требовал крошек хлеба. Ее взгляд был мечтательно устремлен вдаль. На коленях лежала исписанная тетрадь. Это были стихи, написанные рукой покойного Лебсрехта. В них звучали глубокая скорбь и вместе покорность судьбе. На пожелтевшем от времени листке стояло: «Фридерике».
Скрип шагов на лестнице вернул девушку к действительности. Она поспешила навстречу тетке, сняла с нее накидку, повесила ее на гвоздь, придвинула ей кресло покойного отца и подала ей кофе. «Стрекоза» любовно следила за движениями племянницы, но какая то недовольная складка лежала на ее кротком лице. Наконец она обратилась к Магдалине:
– Я только что встретила госпожу Шмидт. Она хотела передать мне деньги, которые ты отказалась взять от нее. Конечно, хорошо делиться с неимущим, мой покойный отец часто повторял мне это, и хотя, когда мы терпели нужду, никто не делился с нами, но я не забывала этих слов Священного Писания и всю свою жизнь по мере возможности исполняла их. Но все имеет границы… Ты целый день проработала, разрисовывая ленты для покойного ребенка Шмидт, нарисовала такие чудные розы, каких не делаешь и для богатых, и вдруг теперь отказываешься взять за эту работу деньги! Для нас это – большие деньги, и, право не стоило так трудиться: душа этого ребенка вошла бы в Царствие Небесное и без этого украшения, довольствовавшись букетиком полевых цветов, который мать положила бы на гробик вместо рисованных цветов и изречений на белой атласной ленте.
– Тетя, я не хочу думать, что вы говорите серьезно! – горячо возразила девушка, и ее кроткие черты приняли строгое выражение. – Разве вы не знаете, как отчаивалась, как рыдала несчастная мать, когда Бог взял ее девочку, единственную радость и утешение ее жизни? Разве нам не отрадно отдать последний долг, воздать почести дорогому умершему пред вечной разлукой с ним? Разве не служит для нас утешением возможность выразить последнюю ласку и заботу отошедшему в иной мир, и неужели бедная мать должна лишить себя этого утешения только потому, что она бедна? Не сердитесь на меня, тетя, но я решительно не могу взять эти деньги, облитые слезами несчастной матери.
– Ты опять начала говорить по-книжному, но, Лина, если ты будешь так поступать, то никогда ничего не припасешь себе, хоть проработаешь всю жизнь.
– Не беспокойтесь, тетя, – ответила молодая девушка с оттенком горечи в голосе, – вы отлично знаете, что я всегда беру деньги от родных богатых покойников. Вы ведь не взяли денег от Шмидт, не правда ли?
– Конечно не взяла, раз ты этого не хочешь, но это не помешало мне рассердиться на тебя. Я даже Якову сказала, который как раз встретился мне в эту минуту. Но он ни на волос не лучше тебя: «Линочка права», сказал он мне и принял твою сторону.
Взгляд «Стрекозы» скользнул по лежащей на столе исписанной тетрадке.
– Что это у тебя за писание? – спросила она.
– Это – стихи, написанные покойным дядей Лебсрехтом. Я вытирала пыль в шкафу и как-то уронила одну книгу; при падении она раскрылась, и из нее выпала эта тетрадка.

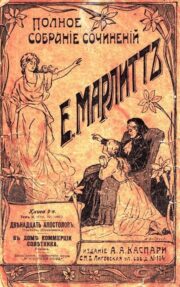
"Двенадцать апостолов" отзывы
Отзывы читателей о книге "Двенадцать апостолов". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Двенадцать апостолов" друзьям в соцсетях.