– Мишель, я хочу сказать тебе правду.
Это не обезоружило его, он рассмеялся:
– Опять! Опять ты хочешь сказать мне правду? Во-первых, какую правду? Одну я уже знаю, и, признаться, мне её более чем достаточно. Я бы даже сказал, она мне осточертела. А есть ещё и другая? Ну и дела!.. С неба сыплются откровения, раскройте передник пошире… А?.. Что ты сказала?
– Я? Ничего. Жду, когда ты перестанешь. Неужели так трудно вести себя просто?
Мишель опустил глаза, лицо и голос изменились:
– Да, милая моя детка, очень трудно, уверяю тебя. Когда терпишь то, что терплю я, гораздо легче вести себя непросто: изображать спокойствие и любезность, не броситься куда-нибудь – в пьянство, в реку, в разные там снотворные…
Он тяжело сел на стул недалеко от неё.
– Удивительно всё же, что человек может до такой степени зависеть от оттенков страдания, от оттенков измены… Никогда бы в это не поверил. Я говорю тебе раз, другой, двадцать раз: если бы ещё дело было в…
Она вскочила, бросилась к нему:
– Вот именно! Мишель, Мишель, послушай, это я во всём виновата, мне надо было всё сказать тебе раньше… Мишель, у нас есть надежда…
Она выказала излишнюю весёлость, и поняла это. «Ну-ну! Это для него всё же не праздник…» Ей бы хотелось пробудить в нём любопытство, тревогу. Но он сидел отчуждённый, вздёрнув плечо, сощурившись. Она прибегла к помощи своего чарующе жалобного голоса:
– Помоги мне, Мишель, хоть немного! Ты же видишь, как я мучаюсь!
– Я вижу в основном то, – сказал он, – что ты похожа на сквозняк. Сколько предисловий и жестов! Какой шум! Сколько от неё шума, от этой правды!
Она покраснела, оскорблённая в своих лучших чувствах, в стремлении к примирению.
– Ладно, тогда я сразу перейду к делу, без лишних слов. Вспомни, ты много раз повторял, что предпочёл бы…
Она запнулась.
– …что ты придавал бы меньше значения…
Он сделал движение рукой, как бы отталкивая слова, которые она собиралась произнести:
– Понятно, понятно, давай дальше…
– И что ты снисходительно или, по крайней мере, с пониманием…
– Ну да, да…
– …отнёсся бы к…
Он сжал кулак, притиснув его к зубам:
– У-у! Дальше, чёрт возьми…
Забыв о всякой сдержанности, она выпалила:
– Так знай, я спала с Амброджо потому, что мне этого хотелось, исключительно поэтому! И я перестала с ним спать, потому, что мне расхотелось! А помимо этого твой идиот из Ниццы никогда не вызывал у меня ни малейшего интереса! Вот что я хотела тебе сказать!
Она распахнула окно; дождь хлестнул её по разгорячённому лицу, порыв ветра овеял запахом размокшей земли, и она закрыла обе створки. Мишель не шелохнулся, и, видя, как он сидит неподвижно, Алиса ощутила стыд.
– Ну вот, – сказала она, – ты вынудил меня выложить всё разом… но я хотела во что бы то ни стало тебя…
– Успокоить, – подсказал Мишель.
– Да, – простодушно согласилась она. – Я хотела, чтобы ты легче к этому относился… Теперь ты легче к этому относишься?
– Чёрт возьми, это, наверно, не совсем подходящее слово…
Он улыбался, взгляд его блуждал, на лице нельзя было заметить ничего, кроме бледности.
– Понимаешь, ты только что мне заявила: «Я солгала, всё было по-другому, этот тип уже не "отзывчивый парень", не "утонченный, обаятельный друг"», речь идёт лишь о… как бы это выразиться… о том, что вы приятно время провели. Так?
Она не нашлась что ответить, и почувствовала, что краснеет до корней волос.
– Это очень мило, девочка моя, очень мило, – продолжал он, но кто поручится, что ты не вывернула всё наизнанку исключительно – как ты выражаешься, – чтобы доставить мне удовольствие?
Она незаметно для него трогала сложенные листки у себя в кармане, листки, на которых её память вновь читала короткие фразы. «Лекарство? Но какое горькое…» Мишель глядел на неё нестерпимым взглядом хитроумного сыщика.
– Не скрою, мне очень хотелось бы тебе верить. Но не преувеличивай мою добрую волю – она любит надёжность. Дело за тобой, докажи, что ты тоже не брезгуешь опираться – если я осмелюсь так выразиться – на… на реальные факты, хе-хе, на неопровержимую реальность!
Алиса не смогла дольше выносить этот смех, этот разговор. Она зажала в кулак листки, лежавшие в кармане, вытащила их и показала Мишелю. Он словно ожидал этого: схватил её за запястье и стал по одному разжимать пальцы.
– А-а-а!.. Отдай… это моё… – в отчаянии простонала Алиса.
Однако она не сделала попытки вернуть своё добро, хотя слышала, как листки негромко потрескивают в руках Мишеля, точно горящая солома. Мишель больше не обращал на неё внимания. Он вернулся к действительности и осознал своё положение, и теперь ему было достаточно того, что он завладел этими бумажками, похрустывавшими, как новенькие денежные купюры. «Это такая же foreign paper, – думал он. – На сей раз я захватил весь выводок». Он дышал полной грудью, исчезло железное остриё между рёбер, стеснявшее движения, не было больше «если бы ещё…», стоящих между ним и волей к победе. «Бедняжка Алиса, вот теперь я её поймал».
– Bono, bono, – машинально произнёс он.
Он укрылся за секретером, оставив вдалеке ограбленную Алису, и стал осторожно разворачивать письма, стараясь не порвать их, а иногда дул на тонкие листки – так охотник дует на неостывшие перья убитой птицы… Наконец он разгладил их ладонью, а другую ладонь сложил ковшиком, словно хотел заслонить от ветра пламя.
Вначале его лицо, его глаза от жадного внимания казались почти радостными. Напрягшийся подбородок выпятил полукруг узкой, чётко очерченной бородки. Не разобрав первых же слов, он был вынужден взять очки. Тогда Алиса обхватила голову руками и стала вслушиваться в дождь. Но пелена дождя низвергалась так однозвучно, что вскоре она перестала его слышать. Сердце, как и маятник причудливых часов в виде совы, неровно отбивало такт, и это на несколько секунд её позабавило: «Моё сердце дробит на триоли такты часов… Это просто находка для Ласочки… Она бы назвала её "Заунывная песня", это напрашивается, или же "Грозный час"…»
Подняв голову, она увидела, что Мишель больше не читает.
– Ты дочитал?
Он обратил к ней глаза, их выражение было неразличимо за толстыми стёклами очков.
– Да. Я дочитал.
– Думаю, ты во всём разобрался?
– Я… Да… Скажи… А ты отвечала на его письма?
Она взглянула на него с искренним удивлением.
– Я? Нет.
– Почему?
– Мне нечего было ему сказать. О чём бы я ему написала? Да и с какой стати?
– Не знаю… Дух соревнования… Признательность. Энтузиазм… Маленький эпистолярный турнир… Если остальные письма не уступают этим трём образчикам…
Она вскочила, прошла за спиной Мишеля, наклонилась над секретером:
– Нет, Мишель, нет! Вся эта неприглядная история здесь, перед тобой. Одно, два, три письма… Одна, две, три недели… Дурной сон, который зато скоро кончился. У такой мелкой гадости, слава Богу, не может быть долгой агонии. Впрочем, в одном из писем ты найдёшь точную дату, в этом, кажется…
Палец Алисы, указывая на письмо, случайно попал на одно грубоватое слово, она заметила это, но не успела отдёрнуть руку, которую Мишель тут же схватил, вывернул и отбросил – Алиса даже не успела вскрикнуть.
Она молча принялась растирать занывшую от боли руку и не потребовала объяснений; пока Мишель разрывал на мелкие кусочки прозрачный листок бумаги, она размышляла, погрузившись в думы разочарованного филантропа: «Дело не стоило того… Выбиваешься из сил, чтобы всё уладить, и вот награда… Больше я так не попадусь!..» По мере того как боль в вывернутых пальцах ослабевала, Алиса становилась суровее к самой себе: «Я сделала то, что, наверное, не следует делать никогда: я открыла ему секреты моей чувственности, другие неизвестные ему секреты… Но теперь всё сказано. Выздоровеет ли он от этого быстрее, чем выздоровел бы от гордыни оскорблённого чувства? Он ручался мне за это. Он столько раз твердил мне, что если бы только…»
Она встряхнула онемевшей рукой, села напротив мужа. Теперь его очки лежали на столе, он рвал на мелкие кусочки два других листка, покрытых лиловой вязью мелкого почерка.
– Ну что, Мишель?
– Ну что, дорогая… Тебе не слишком больно?
Она улыбнулась, вспомнив смех Марии.
– Трижды ничего, – сказала она. – А… а ты?
– Ну что, дорогая… – повторил он. – Ну что ж, я думаю, что этот маленький холодный душ принесёт… да… принесёт только пользу…
– Брось туда, – сказала она, показав на камин.
– С удовольствием.
Он сжёг похожие на мотыльков обрывки бумаги и снова умолк.
– А! – встрепенулась Алиса. – Ты заметил: дождь-то перестал.
– Верно, верно, – вежливо кивнул он.
– Мишель, а ты не удивлён, что эти письма были у меня здесь?
В его взгляде, обращённом на жену, не было, как она отметила, ни осуждения, ни неизбежного в его положении мстительного любопытства.
– Да, – ответил он. – Как раз сейчас мне это пришло в голову. Но я подумал, что, в общем, не стоит… уже не стоит задавать этот вопрос.
– Ты совершенно прав. Ах, Мишель, – робко, нежно, смиренно промолвила она, – давай выкарабкаемся из этой истории без больших неприятностей, ладно?
Она соскользнула на пол возле Мишеля мягким, неуловимым движением, которое он называл «змеиный фокус». Однако он вспомнил ту короткую фразу из письма Амброджо, где гибкость Алисы называлась иначе, и затем его безупречная память начала диктовать ему подряд, без пропусков и ошибок, все три письма.
Оба сидели задумавшись, глядя на догорающий камин, где уголья медленно превращались в белесый пепел. Дырявый водосточный жёлоб ещё икал, но ливень, барабанивший по черепице, умолк. Зашелестел ветер, слетевший с гор и донесённый холодными водами реки, а вместе с ним подали голос промокшие, но стойкие соловьи.
– Шевестр говорит… – начала Алиса, подняв палец. – Тебя удивляет, что я ссылаюсь на Шевестра? Он говорит: коли ночью дождь перестаёт, значит, утро уже близко. Мишель, не пойти ли нам всё же спать?

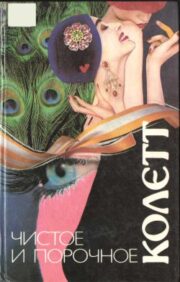
"Дуэт" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дуэт". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дуэт" друзьям в соцсетях.