– Пусть так, – соглашается Бесс, дитя елизаветинской Англии, где правду продают на рынке и у сплетен есть цена. – Но зачем кому-то рассказывать старые сплетни про вас? И почему сейчас?
– В этом-то и вопрос, – просто отвечаю я. – Почему сейчас? Именно в этот, нужный момент? Как раз перед тем, как Норфолк пойдет под суд? Может быть, он отказался свидетельствовать против меня? Может, они боятся, что доведут его до самых ступеней эшафота, а он не обвинит меня в измене? Потому что он знает, что невиновен в восстании против Елизаветы и что я тоже невиновна. Все, чего мы хотели, – это пожениться и чтобы меня отпустили в мою страну. Все, что мы затевали, – это мое освобождение. Но Норфолка хотят повесить, а меня уничтожить. Вы что, не понимаете, что это правда?
Бесс по-прежнему держит иглу над вышивкой. Она знает, что я права, и знает моего врага. Она знает, как он работает и как добивается успеха.
– Но к чему чернить вас старой сплетней?
– Я женщина, – тихо отвечаю я. – Если ненавидишь женщину, первым уничтожаешь ее доброе имя. Меня назовут опозоренной; негодной править, непригодной для брака. Если уничтожить мое доброе имя, преступление Норфолка станет еще хуже. Его выставят человеком, который готов был жениться на прелюбодейке и убийце. Выставят обезумевшим от властолюбия, а меня – ниже шлюхи. Кто пойдет за Норфолком, кто станет мне служить? Ни один верный шотландец, ни один верный англичанин не захочет видеть меня на троне. Станут думать, что я виновна в измене Елизавете, потому что поверят, что я шлюха и убийца.
Бесс неохотно кивает.
– Обесчестить вас обоих, – говорит она. – Хотя и не могут отдать вас обоих под суд.
– А кто станет нашептывать такое? Как вы думаете, Бесс Талбот? Знаете вы, кто использует слухи и ложные обвинения, и чудовищную клевету, чтобы погубить доброе имя другого? Чтобы навсегда с ним покончить? Когда не может доказать, что человек виновен, с помощью расследования, но настроен сделать так, чтобы весь мир поверил, что он виновен? Кто так поступает? У кого уже есть на службе люди и власть, чтобы это осуществить?
Я вижу по ее пораженному лицу, что она прекрасно знает, кто посылает шпионов и что тот же человек направляет клеветников.
– Не знаю, – упрямо говорит она. – Не знаю никого, кто стал бы такое делать.
Я не настаиваю. Я слышала баллады похуже той, что мы только что сожгли в камине, и портреты видела похуже. Я позволяю Бесс упорствовать в отрицании, не называть своего друга Сесила шпионом и метателем грязи.
– Что ж, – легко отвечаю я. – Если вы не знаете, вы, пожив при дворе и повидав, кто правит и у кого есть власть, тогда могу сказать, что и я этого не знаю.
1572 год, январь, Колд-Харбор хаус, Лондон: Джордж
Добравшись до Лондона, после скверной дороги в ужасную погоду, и открыв несколько комнат в лондонском доме, я узнаю, что Сесил, три с лишним года хранивший по приказу Елизаветы чудовищные письма шотландской королевы как государственную тайну, счел, что теперь стоит обнародовать это дикое и непристойное собрание стихов, угроз и порока.
Отказавшись читать их в качестве секретного документа и настояв на том, чтобы они или были представлены как доказательство в суде, или вовсе не были показаны, теперь я узнаю, что эти сугубо секретные бумаги, слишком омерзительные, как мы совместно решили, чтобы обсуждать их во время официального расследования, доступны у разносчиков в виде книжек, выставлены на продажу, и бедняки пишут баллады и вешают рисунки, основанные на этой мерзости. Предполагаемый автор этих порочных и похотливых писаний, королева Шотландии, признается всеми, кто купил и прочел книжку, воплощением порока; даже простонародье по всей Англии, похоже, узнало об этих письмах и теперь утверждает, с полной уверенностью невежества, что она любовница Ботвелла и убийца Дарнли, отравительница первого мужа и любовница своего французского свекра и стоит самого дьявола. О ней сочиняют баллады и рассказы и всякие похабные загадки. Она, явившаяся мне впервые созданием из огня и воздуха, теперь стала притчей во языцех, над ней потешаются.
Все это, разумеется, делает Норфолка еще большим дураком, по общему мнению. Еще до того, как он предстанет перед судом, мы все думаем, что он, видимо, был опьянен амбициями, раз его соблазнила такая отъявленная Иезавель. Еще до того, как было обнародовано хоть слово его показаний, до того, как он даже вошел в зал суда, всякий верно здравомыслящий англичанин порицает его глупость и похоть.
Кроме меня. Кроме меня. Я его не порицаю. Как я могу? Она покорила меня, как и его, я желал ее, как и он. Ему, по крайней мере, хватило ума думать, что, пусть она и была дурной женщиной, она все еще оставалась королевой Шотландии и могла сделать его королем. По крайней мере, в нем жило прежнее говардовское властолюбие. Я был большим дураком, чем он. Я просто хотел ей служить. Я даже не искал награды. Я не считался с расходами. Я просто хотел ей служить.
1572 год, январь, замок Шеффилд: Бесс
Нам приходится ждать приговора Томасу Говарду из Лондона, и скоротать время ожидания мы никак не можем. Королеве Шотландии не терпится узнать новости, но она боится их услышать. Можно подумать, она его действительно любит. Можно подумать, судят ее любимого.
Она ходит по крепостной стене и смотрит на юг, туда, где он, а не на север. Знает, что никакая армия с севера за нею в этом году не явится. Ее простофиля Норфолк и ее сводник Росс в тюрьме, а ее шпион сбежал, она совсем одна. Мастер заговоров Ридольфи сплел сеть только для того, чтобы освободиться. Ее прошлый муж, Ботвелл, навсегда останется в датской тюрьме; и шотландские лорды, и англичане решительно настроены не позволить освободить такого опасного врага. Больше он ей помочь не сможет. Ее безумный обожатель и единственный верный друг, мой муж, лелеет свое разбитое сердце и наконец-то вспомнил о долге перед королевой и страной – и о своих обетах мне. Никто из тех мужчин, которых она очаровала, ей теперь не поможет. Нет армии, чтобы ее спасти, нет никого, кто поклялся бы быть с нею до самой смерти, нет паутины друзей и лжецов, тайно собирающихся в дюжине укрытий. Она разбита, друзья ее арестованы, кричат на дыбе или сбежали. Она наконец-то стала настоящей узницей. Она в моей власти.
Странно, но мне это не доставляет радости. Возможно, дело в том, что она наголову разбита: красота ее тонет в жире, изящество из-за боли превратилось в неуклюжесть, глаза опухли от слез, ее рот, похожий на розовый бутон, теперь вечно изогнут дугой от страдания. Она, всегда выглядевшая настолько моложе меня, теперь вдруг состарилась, как я, сделалась усталой, как я, и печальной, как я.
Мы образуем тихий союз, мы выучили жестокий урок: мир – непростое место для женщины. Я утратила любовь своего мужа, своего последнего мужа. Но и она тоже. Я могу потерять дом, а она потеряла королевство. Моя судьба еще может перемениться, ее тоже. Но в эти холодные серые дни мы с ней, словно две запуганные собаки, жмемся друг к другу ради тепла и надеемся на лучшее, хоть и сомневаемся, что оно будет.
Мы говорим о детях. Словно они – единственная наша надежда на счастье. Я рассказываю о своей дочери Елизавете, и она говорит, что та как раз подходящего возраста, чтобы выдать ее за Чарльза Стюарта, младшего брата ее мужа Дарнли. Если они поженятся – в эту игру мы играем за вышиванием, – их сын станет наследником английского трона, вторым после ее сына Иакова. Мы смеемся, представляя, в какой ужас пришла бы королева, знай она, что мы тут затеваем такой зловещий амбициозный брак, и смех этот похож на смех злых старух, затеявших что-то дурное, чтобы отомстить.
Она расспрашивает меня о моих долгах, и я честно ей говорю, что оплата ее содержания довела моего мужа до разорения, что он заложил мои земли и продал мои сокровища, чтобы спасти свои. Состояние, которое я принесла в этот брак, понемногу было заложено, чтобы отдать его долги. Она не тратит ни свое, ни мое время на сожаления, но говорит, что могла бы настоять на том, чтобы Елизавета выплатила свои долги, говорит, что хороший король или королева не позволят доброму подданному потратиться: иначе как они будут править? Я отвечаю чистую правду: что Елизавета была самой нищей из королев, когда-либо надевавших корону. Она может одарить любовью и привязанностью, верностью, даже почестями и (иногда) доходным положением, но она никогда не дает денег из своей сокровищницы, если может не дать.
– Но ей сейчас понадобится его дружба, – указывает королева. – Чтобы получить обвинительный приговор для герцога. Она должна понимать, что надо выплатить ему долги, он старший судья, она захочет, чтобы он исполнил ее волю.
Тут я вижу, что она совсем его не знает, она даже не начала его понимать. Оказывается, я люблю его за гордое безрассудство, хоть и злюсь на него за то, что он безрассудный гордец.
– Он вынесет приговор, независимо от того, заплатит она ему или нет, – говорю я. – Он Талбот, его не купишь. Он рассмотрит свидетельства, взвесит обвинение и придет к справедливому решению; сколько бы ему ни заплатили, чего бы это ни стоило.
Я слышу в своем голосе гордость.
– Такой он человек. Я думала, вы его уже узнали. Его нельзя подкупить, и купить его нельзя. Он человек непростой, даже не очень здравомыслящий. Он не понимает, как устроен мир, и он не слишком умен. Его даже можно назвать дураком, уж из-за вас-то он совсем дураком стал; но он всегда, всегда остается человеком чести.
1572 год, январь, замок Шеффилд: Мария
В ночь, когда начинается суд, я отсылаю своих дам спать и сижу у огня, погрузившись в мысли – не о герцоге Норфолке, который завтра предстанет ради меня перед судом, но о Ботвелле, который никогда бы не пошел под арест, никогда бы не позволил своим слугам признаться, никогда бы не написал о государственной тайне кодом, который можно взломать, никогда бы не позволил найти этот код. Который – видит бог, прежде всего – никогда бы не доверился перебежчику вроде Ридольфи. Который – да простит меня Господь – никогда бы не поддался моим заверениям, что Ридольфи тот, кто нам нужен. Ботвелл бы сразу понял, что мой посол Джон Лесли сломается на допросе, понял бы, что Ридольфи станет трепать языком. Ботвелл бы догадался, что заговор провалится, и никогда бы к нему не примкнул. Ботвелл – я смеюсь при мысли об этом – никогда бы не послал выкуп королевы в мешке без метки, с обойщиком из Шрусбери, положившись на удачу. Ботвелл был вором, похитителем, насильником, убийцей, злым, отвратительным человеком, но жертвой он не был. Никто ни разу долго не удерживал Ботвелла, не надувал его, не обманывал, никто не заставил его пойти против его собственных интересов. То есть до тех пор, пока он не встретил меня. Когда он сражался за себя самого, он был непобедим.

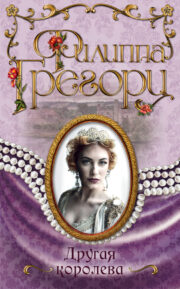
"Другая королева" отзывы
Отзывы читателей о книге "Другая королева". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Другая королева" друзьям в соцсетях.