– Даже на то, что она удержит вашего сына? – спрашивает он.
Я поворачиваюсь к нему.
– Я думала об этом, и есть решение, которое я могла бы предложить, если вы согласитесь мне помочь.
– Все, что угодно, – тут же отвечает он. – Вы знаете, я сделаю для вас все.
Я одно мгновение смакую эти слова, а потом перехожу к главному:
– Вы согласны быть его опекуном? Если принц Иаков будет жить с вами, в вашем доме, вы будете заботиться о нем, как заботились обо мне?
Он потрясен.
– Я?
– Я бы вам доверилась, – просто говорю я. – И не доверилась бы никому другому. Вы ведь могли бы опекать его ради меня, правда? Вы позаботитесь о моем мальчике? Вы не позволите им развратить его? Не позволите настроить его против меня? Будете его беречь?
Он соскальзывает с табурета и встает коленями на ковер, который постелили на берегу реки под мое кресло.
– Я жизнь положу, чтобы уберечь его, – говорит он. – Я посвящу ему свою жизнь.
Я даю ему руку. Это последняя карта в колоде, мне нужно ее разыграть, чтобы вернуться в Шотландию и в то же время удостовериться, что мой сын будет в безопасности.
– Вы сможете убедить Сесила, чтобы Иакова отдали вам? – прошу я. – Предложить это, как будто это ваша мысль?
Он так в меня влюблен, что не задумывается ни о том, что сперва нужно бы спросить жену, ни о том, что стоит поостеречься, когда враг его страны просит об особом одолжении.
– Да, – отвечает он. – Почему бы ему не согласиться? Ему нужен договор, нам всем он нужен. А я почту за честь заботиться о вашем сыне. Это будет… опекать его ради вас, это все равно что…
Он не может этого сказать. Я знаю, что он думает: растить моего сына – это все равно как если бы мы поженились и у нас был ребенок. Я не могу поощрять такие речи, мне нужно мягко держать его на месте: в его браке, в уважении среди пэров, в доверии у королевы, на посту в Англии. Он для меня бесполезен, если решат, что он неверен. Если о нем будут дурно думать, меня у него заберут и сына моего ему не доверят.
– Не говорите этого, – страстно шепчу я, и это сразу заставляет его умолкнуть. – Некоторые вещи между нами не могут быть произнесены. Это вопрос чести.
Это его останавливает, я знала, что так будет.
– Это вопрос чести для нас обоих, – говорю я на всякий случай. – Я не могу допустить, чтобы вас обвинили, что вы воспользовались своим положением в качестве моего опекуна. Подумайте, как ужасно будет, если кто-то скажет, что я была в вашей милости и вы обесчестили меня в своих мыслях.
Он едва не давится.
– Никогда! Я не такой!
– Я знаю. Но так скажут люди. Люди всю мою жизнь говорят про меня ужасные вещи. Меня могут обвинить в том, что я пыталась вас соблазнить, чтобы сбежать.
– Никто не может такого измыслить!
– Вы же знаете, об этом уже говорят. Нет ничего, что бы ни сказали обо мне шпионы Елизаветы. Про меня говорят самое худшее. Им не понять, что я чувствую… к вам.
– Я сделаю все, чтобы уберечь вас от клеветы, – заявляет он.
– Тогда сделайте вот что, – говорю я. – Убедите Сесила, что сможете стать опекуном моего сына Иакова, а я могу возвратиться в Шотландию. Когда я вернусь на трон, я буду недосягаема для скандала и для шпионов Сесила. Вы можете меня спасти. И уберечь Иакова. Сберегите его ради любви ко мне. Это будет наша тайна. Тайна двух наших скрытных сердец.
– Хорошо, – просто отвечает он. – Верьте, я так и сделаю.
1570 год, июнь, Чатсуорт: Джордж
Соглашение достигнуто, слава богу, достигнуто и вскоре будет заключено и подписано. Королева вернется в Шотландию, а я стану опекуном ее сына. Ничто, кроме этой обязанности, не может утешить меня в ее потере. Но стать отцом ее мальчику – это все для меня. Я буду видеть в нем ее красоту, я выращу его, как она пожелает. Я вложу в него свою любовь к ней, она увидит, что из моей опеки он выйдет достойным молодым человеком. Она будет гордиться им, он станет моим воспитанником, и я сделаю из него хорошего принца – ради нее. Я не подведу ее. Она доверяет мне, и она увидит, что я стою доверия. И какая радость будет, когда в доме поселится маленький мальчик, мальчик, чья мать такая красавица, мальчик, которого я смогу любить ради его матери и ради него самого.
Похоже, наши несчастья окончены. Восстание в Норидже подавлено со стремительной жестокостью, а те католики, что слышали о папской булле против Елизаветы, не торопятся совать голову в петлю. Норфолка выпустят из Тауэра. Сесил сам высказался, что, пусть его проступок и велик, преступления его не составляют измены. Он не предстанет перед судом и не получит смертного приговора. Я чувствую куда большее облегчение, чем показываю Бесс, когда она мне рассказывает.
– Ты недоволен? – озадаченно спрашивает она.
– Доволен, – тихо отвечаю я.
– Я думала, ты будешь рад. Если Норфолка не обвиняют, значит, и на тебе тени нет, ведь ты сделал куда меньше.
– Меня не это радует, – говорю я.
Меня раздражает то, что она предполагает, что я думаю только о своей безопасности. Но она меня постоянно раздражает в эти дни. Она ни слова не может сказать, чтобы меня не задеть. И пусть я знаю, что это несправедливо, даже то, как она входит в комнату, заставляет меня скрипеть зубами. Она как-то ставит ноги – тяжело, как баба, идущая на рынок, и она вечно таскает с собой расходные книги, она всегда так занята, так прилежно трудится, так умело. Она похожа на экономку, а не на графиню. В ней нет изящества. Она совершенно лишена изысканности.
Я знаю, знаю, что я чудовищно несправедлив к Бесс, обвиняя ее в том, что ей не хватает очарования женщины, выросшей при дворе и рожденной для величия. Я должен помнить, что женился на ней по собственному выбору, что она хороша собой, здорова и нрав у нее добрый. Нечестно сетовать, что она не так хороша, как одна из прекраснейших женщин в мире, и манеры у нее не как у королевы одного из изысканнейших дворов Европы. Но в доме у нас такое существо, такое совершенство улыбается мне каждое утро – как я могу ее не боготворить?
– Так что тебя радует? – ободряюще спрашивает Бесс. – Вести добрые, я полагаю. Я думала, ты будешь счастлив.
– Меня радует то, что мне не придется присутствовать на его суде.
– Его суде?
– Я ведь все еще глава суда пэров, – напоминаю я несколько желчно. – Что бы ни думал обо мне твой друг Сесил и что бы ни делал против меня, если бы мог. Я все еще глава суда, и если пэра судят за измену, я должен быть судьей, который слушает это дело.
– Я не подумала, – говорит она.
– Нет. Но если бы твой добрый друг Сесил отдал моего доброго друга Норфолка под суд, именно мне пришлось бы сидеть, глядя на топор, и вынести приговор. Пришлось бы сказать Норфолку, человеку, которого я знаю с тех пор, как он был мальчишкой, что я признаю его виновным, хотя знаю, что он невинен, и что его должны будут повесить, и выпотрошить заживо, и разрубить на куски. Думаешь, я этого не страшился?
Она моргает.
– Я не понимала.
– Нет, – говорю я. – Но когда Сесил нападает на старых лордов, таковы последствия. Нас всех раздирает его властолюбие. Люди, любившие друг друга всю жизнь, брошены друг против друга. Только вы с Сесилом этого не понимаете, потому что не видите в старых лордах братьев. Вновь пришедшим этого не понять. Вы ищете заговоры, вы не понимаете братства.
Бесс даже не защищается.
– Если бы Норфолк не заключил тайную помолвку с королевой Шотландии, он не попал бы в беду, – упрямо говорит она. – Это не имеет отношения к властолюбию Сесила. Это все вина самого Норфолка. Его собственное властолюбие. Возможно теперь, когда он отступился, мы все будем снова жить в мире.
– О чем ты, почему отступился? – спрашиваю я.
Ей приходится спрятать улыбку.
– Похоже, твой большой друг не слишком галантен со своей возлюбленной. Ведет он себя совсем не по-рыцарски. Он не только ее оставил и разорвал помолвку, он, судя по всему, предложил, чтобы она заняла его место в Тауэре, чтобы обеспечить его пристойное поведение. Похоже, в мире есть, по крайней мере, один мужчина, который не стремится за нее умереть. Тот, кто скорее отправит ее в Тауэр за измену. Тот, кто вполне готов уйти от нее, чтобы устроить свою жизнь благополучно – и совершенно без нее.
1570 год, июнь, Чатсуорт: Бесс
Женщине, которая пытается вести как должно хозяйство, нет покоя, если у нее гостья мотовка и муж дурак. Чем больше королеве дают свободы, тем больше мы тратим. Теперь мне сказали, что она может принимать гостей; и каждый жадный до зрелища зевака в королевстве приходит поглядеть, как она ест, и немножко угоститься сам. Один ее счет за вино в месяц выходит больше, чем мой за год. Я не могу даже начать подводить баланс, эти счета мне не по карману. Впервые в жизни я смотрю на книги не просто без удовольствия, но в совершенном отчаянии. Стопка счетов растет постоянно, а дохода она не приносит никакого.
Деньги так и улетают на королеву: ее излишества, слуги, кони, домашние животные, гонцы, стражи, шелк для вышивания, камчатная ткань на платья, полотно на постель, травы, масла, благовония для туалетного столика. Уголь для ее камина, лучшие восковые свечи, которые она жжет с середины дня до двух пополуночи. Она их жжет, пока спит, освещая пустые комнаты. У нее шелковые ковры на столе – она даже кладет мой лучший турецкий ковер на пол. Она требует особых продуктов на кухне, сахар и специи приходится везти из самого Лондона, особого мыла для стирки, особого крахмала для белья, особых подков для лошадей. Вино на стол, вино для слуг и – невероятно – лучшее белое вино для умывания. Мои расходные книги в случае с шотландской королевой – сплошная насмешка, в них только одна колонка: расход. На той стороне, где вписывают доходы, пусто. Даже пятидесяти двух фунтов в неделю, которые нам обещали, нет. Ничего. Нет страниц прихода, потому что прихода нет. Я начинаю думать, что и не будет, что так оно все и будет продолжаться, пока мы окончательно не разоримся.

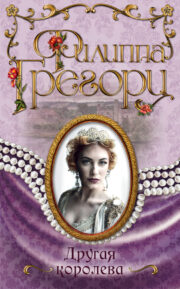
"Другая королева" отзывы
Отзывы читателей о книге "Другая королева". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Другая королева" друзьям в соцсетях.