— Моя сестра, ваше величество, леди Кэри.
Франциск целует мне руку, шепчет обольстительно:
— Enchant.[30]
— Давайте танцевать, — приглашает Анна, я знаю, сестра недовольна — кто-то обратил на меня внимание. Музыканты ударяют по струнам, и до поздней ночи двор веселится, прилагает немалые усилия, стараясь доставить Анне удовольствие.
Так закончился наш визит во Францию, весь следующий день мы пакуем сундуки, собираемся в обратную дорогу. Но ветер противный, и мы все еще в Кале. Каждое утро посылаем за капитаном корабля, чтобы узнать — сможем ли сегодня покинуть гавань. Анна и Генрих охотятся, развлекаются, будто они в Англии. По правде сказать, здесь им лучше, во Франции никто не освистывает Анну, когда она проезжает мимо, не кричит „шлюха“ прямо в ухо ее коню. Нам с Уильямом задержка в Кале тоже по вкусу.
Каждый день отправляемся мы на верховые прогулки по плотно утрамбованному пляжу к западу от города — глазу не видно конца песчаной полосы. У самой кромки моря лошади пускаются в галоп, там песок особенно плотный. Мы их не сдерживаем. Потом сворачиваем в дюны, Уильям снимает меня с седла, расстилает плащ на земле, мы ложимся рядом.
Крепкое объятие, и скоро я чуть не плачу, поцелуи и страстный шепот доводят меня до полного любовного исступления.
Нередко мне хочется развязать завязки на его штанах, пусть возьмет меня попросту, прямо тут, словно деревенскую девчонку. Теплое солнышко соблазняет, вокруг никого, тишину нарушают только крики чаек. Он целует меня, покуда распухшие, потрескавшиеся губы уже не выдерживают, по вечерам, когда я ужинаю с остальными дамами — без него, следы страстных укусов еще дают себя знать, мне то и дело приходится охлаждать губы в ледяном питье. Он безо всякого стыда ласкает каждую складочку моего тела. Развязывает тесемки корсажа, чтобы добраться до бедер, до обнаженных грудей. Наклоняет курчавую голову, чтобы достать губами до самых тайных уголков, и скоро я уже кричу от наслаждения, мне кажется, я достигла той высоты, после которой больше не выдержать, и вдруг он кусает меня прямо в живот, я вздрагиваю от боли, отталкиваю его, и вместо тихих стонов наслаждения раздаются крики и шум борьбы.
Он снова ловит меня в свои объятья, лежит рядом неподвижно, ждет, пока я немножко успокоюсь. Теперь он поворачивает меня, ложится сверху всей тяжестью длинного, худого тела, снимает моей чепец, откидывает волосы, покусывает сзади шею, прижимается так, что я чувствую — несмотря на юбку и нижнюю сорочку, — как он возбужден. Я словно последняя шлюха еще крепче прижимаюсь к нему, будто прошу довести дело до конца, не спрашивая моего дозволения, ибо я не могу сказать „да“. Бог свидетель, „нет“ я тоже сказать не в силах.
Он вжимается в мое тело, замирает, вжимается снова, он знает, что сейчас случится. Чем быстрее он движется, тем сильнее вздымается во мне волна наслаждения, теперь я уже не могу остановиться, хочу я того или нет, но раньше, чем я поднимусь на гребень волны, раньше, чем наши тела соприкоснутся друг с другом обнаженной кожей, он замирает, легонько вздыхает и валится рядом со мной. Потом обнимает, целует закрытые веки, держит, покуда я не перестану дрожать.
Каждый день, как только ясно, что ветер по-прежнему противный и корабли остаются в гавани, мы скачем в дюны. Наши страстные объятья по-прежнему удерживают нас на самой грани, и каждый день я надеюсь — может быть, сегодня я шепну „да“ или он заставит меня, не спрашивая согласия. Но каждый день он останавливается лишь мгновением раньше, обнимает, поглаживает, будто я корчусь от боли, а не от страсти — и так день за днем, день за днем.
На двенадцатый день мы ведем коней в поводу обратно к кромке воды. Уильям внезапно поднимает голову:
— Ветер переменился.
— Что? — недоуменно переспрашиваю я. У меня все еще голова кружится от наслаждения, мне не до ветра. Я с трудом замечаю песок под подошвами сапожек для верховой езды, неожиданные ямки, тепло вечернего солнышка на левой щеке.
— Ветер от берега. Теперь корабли смогут отплыть.
Я кладу руку на гриву лошади.
— Отплыть?
Он поворачивает голову, видит мой туманный взгляд, громко смеется:
— Любовь моя, ты где-то еще, не здесь. Помнишь, мы не могли вернуться в Англию из-за противного ветра. Теперь пришел попутный. Завтра мы отплываем.
— Так что же нам делать? — доходит до меня внезапно.
Он наматывает на руку поводья своей лошади, подходит к моей.
— Поставить паруса, наверно. — Его ладонь под моим сапожком, он легко подбрасывает меня в седло. Все тело ломит — неутоленное желание, день за днем. Двенадцать дней неутоленного желания.
— А потом что? — продолжаю я. — В Гринвиче все будет не так.
— Это уж точно, — легко соглашается он.
— Так где же нам встречаться?
— Придешь на конюшню, там я. А я тебя отыщу в саду. Нам всегда удается встретиться. — Он легко вскакивает на коня, у него-то ноги не дрожат.
Я с трудом подбираю слова:
— Нет, не хочу так.
Уильям, разбирая поводья, слегка нахмурился, выпрямился, потом улыбнулся мне отстраненно:
— Летом отвезу тебя в Гевер.
— До лета еще семь месяцев!
— И то правда.
Я подскакала чуть поближе, не могу поверить — ему что, совершенно все равно?
— Не хочешь больше встречаться каждый день?
— Сама знаешь, как хочу.
— Так как же тогда это устроить?
— Не думаю, что удастся, — чуть насмешливо усмехается он, продолжает ласково: — У Говардов слишком много врагов, кто-нибудь да донесет о твоем легкомысленном поведении. И в свите твоего дядюшки шпионов предостаточно, поймают и меня. Нам повезло, получили двенадцать дней, чудные были дни. Но в Англии ничего такого не предвидится.
Я только вздохнула. Повернула лошадь, теперь солнце греет спину. Волны чуть слышно накатывают на берег, кобыла немножко волнуется, когда у копыт расплескивается вода. Я не могу ее удержать, она мне не повинуется. Я сама себе не повинуюсь.
— Мне не след оставаться на службе у твоего дядюшки. — Уильям удерживает лошадь вровень с моей.
— Что?
— Отправлюсь к себе на ферму, попытаюсь там похозяйничать. Земля меня уже заждалась. Не желаю больше быть при дворе. Не подходит мне эта жизнь. Не люблю подчиняться, не могу прислуживать. Даже такому знаменитому семейству, как твое.
Я выпрямилась. Помогла всегдашняя гордость Говардов. Расправила плечи, подняла подбородок, холодно, прямо как он, произнесла:
— Если вам так угодно.
Он кивнул, позволил коню приотстать. К стенам замка мы подскакали как положено даме и ее сопровождающему. Зачарованные любовники песчаных дюн остались далеко позади. Дама из рода Болейн и конюший Говардов возвратились ко двору. Городские ворота открыты, еще не стемнело, теперь мы бок о бок скачем по булыжным мостовым. Подъемный мост замка опущен. Подъехали прямо к конюшням. Конюхи чистят лошадей, обтирают пучками соломы взмыленные бока. Король и Анна вернулись полчаса назад, их лошадей водят по двору, чтобы немного остыли. Теперь уж точно поговорить не удастся.
Уильям снял меня с седла, и от прикосновения его рук, касания его тела я вдруг почувствовала такое сильное желание, что даже тихонько застонала.
— Что с тобой? Тебе нехорошо?
— Да, — почти прокричала я, — мне нехорошо. Ты знаешь, что мне нехорошо.
На мгновенье и он потерял рассудительность, резко притянул к себе.
— Теперь тебе так же плохо, как мне все это время. — Слова грубые, тон страстный. — Так же плохо, как мне — день и ночь, стоило мне только впервые тебя увидеть. Наверно, до конца моих дней мне будет так плохо. Подумай об этом, Мария. Пошли за мной. Пошли за мной, когда поймешь, что не можешь без меня жить.
Я вырвала руку, шагнула назад и вот уже иду прочь, слабо надеясь — он бросится за мной. Но нет. Иду так медленно, что услышала бы даже шепот — позови он меня по имени, и я обернусь. Иду прочь, хотя каждый шаг дается мне с невероятным трудом. Вошла под арку прямо в замок, хотя все мое тело криком кричит — только бы остаться с ним.
Так хочется убежать к себе, нарыдаться всласть, но в зале сидит Георг. Поднялся с кресла, спросил:
— Где ты была? Я тебя искал.
— Ездила верхом.
— С Уильямом Стаффордом? — глядит укоризненно.
Я подняла голову, пусть видит покрасневшие глаза, дрожащие губы.
— Да. И что такого?
— Боже праведный! — тоном старшего брата сказал Георг. — Только не это, глупая потаскушка. Пойди умойся, приведи себя в порядок, пока никто не догадался, чем ты занималась.
— Ничем я не занималась! — с внезапной страстью воскликнула я. — Ничем! И что в этом хорошего?
— Ладно, ладно. Поторапливайся.
Я поднялась в комнату, умылась холодной водой, насухо вытерла лицо. Когда я вошла в комнаты Анны, там уже толпились придворные дамы, играли в карты. Георг мрачно сидел у окна.
Он огляделся, взял меня под руку, повел на длинную, вдоль всей залы, галерею, где висели картины. Там в это время дня никого не бывает.
— Тебя видели. Ты что, думала, тебе все с рук сойдет?
— Что мне с рук сойдет?
Он остановился, с небывалой серьезностью взглянул на меня.
— Не дерзи, — предостерег он. — Тебя видели в дюнах, шла с распущенными волосами, голова у него на плече, он тебя за талию обнимает. У дядюшки шпионы повсюду, забыла, что ли? Сама знаешь, они всегда все заметят.
— И что теперь будет? — в голосе страх.
— Ничего, если остановишься. Поэтому-то я с тобой разговариваю, а не отец или дядюшка. Они ничего знать не желают. Можешь считать, они ничего не знают. Просто разговор брата с сестрой и дальше не пойдет.
— Я его люблю, Георг, — сказала тихо-тихо.
Брат опустил голову, потащил меня дальше по галерее.

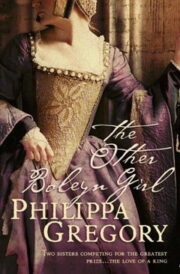
"Другая Болейн" отзывы
Отзывы читателей о книге "Другая Болейн". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Другая Болейн" друзьям в соцсетях.