— А ведь это последний вечер, который мы проводим вместе.
— Пожалуй, что так.
— Вы уверены, что можете дать те деньги, которые мне оставляете?
— Конечно. Ведь они из банка.
— Я знаю, глупый, — засмеялась Эмми. — Откуда же еще вы бы их взяли, если только не держите деньги в чулке. Но ведь банк — не золотая россыпь, из которой можно черпать золото пригоршнями, сколько бы ни понадобилось.
Септимус выколотил золу из трубки.
— К сожалению, соверены берутся не из золотых россыпей. Из тонны кварца можно добыть кусочек золота величиной вот с этот камушек. А бывает, что и вовсе ничего. Я как-то купил несколько акций золотого прииска, а золота там не оказалось вовсе. Прежде я всегда покупал такие вещи. Навяжет кто-нибудь, и я куплю. Как Моисей.
— Моисей?
— О, не пророк Моисей. Тот умел все добыть изо всего. Даже воду из камня. Я говорю о сыне векфилдского священника, который купил зеленые очки.
— А! — произнесла Эмми, которая ничего не знала об этом Моисее.
— А все же теперь я уже ничего не куплю, как бы мне ни навязывали вещь, — рассудительно продолжал он. — Должно быть, поумнел. А может быть, это оттого, что мне приходится заботиться о вас. Теперь я все вижу яснее.
Он набил и закурил вторую трубку и заговорил об Орионе, только что показавшемся из-за края утеса. Эмми, в тот момент больше интересовавшаяся землей, перебила его:
— Мне хотелось бы, чтобы вы одно себе уяснили, дорогой друг: я задолжала Вам уйму денег. Но я уверена, что по возвращении в Лондон найду себе какой-нибудь ангажемент и тогда расплачусь с вами по частям. Помните, я не успокоюсь, пока не верну вам всего вами истраченного.
— А я не буду знать покоя, пока не вернете, — нервно поморщился Септимус. — Пожалуйста, не будем говорить о таких вещах; честное слово, это меня обижает. Дайте же мне возможность, как говорят буддисты, «заслужить спасение».
Этот спор между ними часто возобновлялся. У Эмми были собственные небольшие средства, доставшиеся ей по наследству от отца, и перспектива скромного сценического заработка. Она рассчитывала, что этого хватит ей и ребенку. До сих пор Септимус был ее банкиром. Оба они не знали цены деньгам, а Септимус, к тому же, по-детски верил в волшебную силу выданного чека. Он был так же неспособен подсчитывать, сколько денег дал Эмми, как не стал бы считать, сколько рюмок виски выпил его гость.
Эмми ухватилась за его последние слова и, понизив голос, тоном женщины, давно уже смирившей свою гордыню, возразила:
— Неужели вы еще недостаточно сделали, мой дорогой, чтобы его заслужить? Неужели сами не видите, что мне нельзя столько от вас брать? Вы как будто считаете своей обязанностью заботиться обо мне и ребенке всю жизнь. Я была пустой, распущенной дурой — да, я это знаю — страшной была дрянью. Таких, как я, в Лондоне тысячи…
Септимус вскочил.
— Эмми, не надо! Я не могу этого вынести.
Она тоже встала и положила руки ему на плечи.
— Дайте мне высказаться хоть сегодня — в последний вечер перед разлукой. Это невеликодушно с вашей стороны — не выслушать меня.
Рыжая собака, потревоженная в своем сладком сне, отряхнулась, посмотрела на них с видом смиренного сочувствия и скромно удалилась в тень. Рыбаки на дамбе все еще тянули свою заунывную песню.
— Сядьте.
Септимус повиновался.
— Зачем вы себя мучаете?
— Чтобы отвести душу. И нож иной раз бывает полезен. Да, я знаю, что была страшной дрянью. Но все-таки я не такая уж и плохая. Ведь вы же видите, как все это для меня ужасно. Я должна вернуть вам ваши деньги и, конечно, больше уже ничего от вас не брать. Вы и так слишком много для меня сделали. Иной раз мне мучительно больно об этом думать. Я поступила так только потому, что страшно мучилась, с ума сходила — и схватилась за протянутую мне руку помощи. Теперь, когда я пришла в себя, мне нужно помнить, что я сделала.
— Но почему же? Почему? — допытывался Септимус, чувствуя себя глубоко несчастным.
— Ведь теперь вы не сможете жениться, если только не захотите пройти через отвратительную процедуру развода по обоюдному согласию.
— Милая моя, какая же женщина согласится выйти замуж за такого юродивого, как я?
— Нет женщины на свете, которая не должна была бы на коленях благодарить судьбу за то, что она послала ей такого мужа.
— Я все равно никогда бы не женился, — сказал он, успокаивающим жестом коснувшись ее руки.
— Почем знать? — Она тихонько усмехнулась. — В конце концов, и Зора тоже только женщина — такая же, как мы все.
— Зачем вы говорите о Зоре? При чем тут Зора?
— При всем. Думаете, я не знаю? Вы это сделали не для меня, а для нее.
Он хотел возразить, но она ладонью зажала ему рот.
— Дайте мне договорить!
Она говорила долго, очень ласково, очень умно. Лунный свет вселял тишину в ее сердце, смягчал звук ее голоса, придавая необычную размеренность и плавность речи.
— Я как будто стала на двадцать лет старше, — говорила она.
Ей хотелось высказать ему наконец всю свою признательность и попросить прощения за прежние обиды. Она была озлоблена, как затравленный зверек: то лизала ему руки, то царапалась. Но ведь в то время она еще не вполне отвечала за свои поступки. Иной раз она гнала его — но только ради него самого. А ей становилось так жутко, так страшно при одной только мысли, что она может его потерять!
— Другой мужчина, возможно, и сделал бы то же, что и вы, чтобы выказать себя рыцарем, но нет такого, который бы потом не презирал за это женщину. Я заслужила ваше презрение, но знаю, что вы не презирали меня. Вы относились ко мне точно так же, как и раньше. И это ободряло меня, помогая сохранить известное уважение к себе. Именно поэтому я цеплялась за вас и не могла вас отпустить. Теперь все прошло. Я вполне здорова, нормальна и счастлива, насколько вообще могу быть счастливой. С завтрашнего дня каждый из нас пойдет своей дорогой. Вы ничего больше не можете для меня сделать, а я… дорогой мой, бедный мой, милый! — не в моей власти сделать что-либо для вас. И потому мне хочется сегодня поблагодарить вас.
Она обняла его одной рукой и поцеловала в щеку. Септимус вспыхнул. Ее губы были такими мягкими, ее дыхание — таким сладостным. Ни одна женщина, кроме матери, его еще не целовала. Он повернулся и взял обе руки Эмми в свои.
— Разрешите мне принять это в награду за все. Ведь вы же хотите, чтобы я уехал отсюда счастливым?
— Дорогой мой, — сказала она с легкой дрожью в голосе, — если бы в моей власти было дать вам счастье, я бы сделала все на свете — разве что беби не согласилась бы бросить на съедение тигру.
Септимус снял шляпу и привел свои волосы в состояние нормальной перпендикулярности. Эмми смеялась.
— Боже мой! Что вы такое ужасное собираетесь сказать?
Септимус подумал.
— Если я буду обедать копченой селедкой на глубокой тарелке в гостиной, если моя постель не будет постлана в шесть часов вечера, а мой дом будет представлять собой нечто среднее между свиным закутом и лавкой торговца железным ломом, это никому не покажется странным, ибо все знают: Септимус Дикс — большой чудак. Но если женщина, которая в глазах всего света моя жена…
— Да, да, я вижу, — поспешно перебила его Эмми. — Я не смотрела на это с такой точки зрения…
— Мальчик пойдет в Кембридж, — продолжал он. — А потом я бы хотел, чтобы он попал в парламент. Они там в парламенте чертовски умны. Я встретил одного в Венеции, года три назад. Так чего он только не знал! Я провел как-то с ним вечерок, и он все время чрезвычайно интересно рассказывал любопытнейшие вещи о системе орошения в Барроу-ин-Фернесс. И откуда только люди набираются такой премудрости?
— Это доставило бы вам радость? — неожиданно спросила Эмми.
По ее тону он понял, что вопрос относится к предыдущему разговору, а не к его желанию побольше узнать о системах орошения.
— Конечно.
— Но чем же я смогу вам отплатить?
— Быть может, раз в год вы сможете расквитаться со мной так, как сегодня.
Наступила долгая пауза. Потом Эмми шепнула:
— Какая божественная ночь!..
16
Оправившись после болезни, Сайфер вернулся в Лондон, чтобы продолжать неравную борьбу с силами мрака, черпая, насколько это ему удавалось, вдохновение из писем Зоры. Воскресенья он проводил в Нунсмере, отдыхая в этом мирном уголке, пропахшем лавандой. Миссис Олдрив продолжала считать его выдающимся человеком. Кузина Джен, как и подобает женщине аристократического происхождения, принимала его любезно, но с оттенком сдержанности, предписываемой законами света аристократке в общении с безродным выскочкой. Если бы она не вела принципиальную борьбу с человеческими недостатками и несовершенствами, то сразу бы просто отвергла Сайфера, потому что он был другом Зоры, а Зора ей совсем не нравилась: но она была добросовестной женщиной и очень гордилась тем, что умеет бороться с предрассудками. Кроме того, она собирала старинную оловянную посуду, которой Сайфер интересовался еще в те времена, когда занимался самообразованием, смутно предполагая, что тем самым приобщается к истории культуры. Всякое знание полезно человеку — от теории стихосложения до умения вырезать бумажную бахрому для окорока. Рано или поздно оно наверняка пригодится. Один знаток средне-африканских наречий, например, нашел их весьма подходящими для пререканий с извозчиками, а обращенный на путь добра вор стал превосходным управляющим. И то, что Сайфер считал ненужным хламом, которым он напрасно забивал свою голову, пригодилось ему теперь, скрепив, или, вернее, спаяв, его дружбу с кузиной Джен.
Однако в крем эта леди не верила, о чем и заявила ему напрямик. Она воспитана на вере во врачей, в катехизис, в палату лордов, в неравенство полов, в доблести рода Олдривов, и в этой вере будет жить и умрет, а других ей не надо. Сайфер не рассердился на нее за это: она ведь не позволила себе назвать крем шарлатанским средством. И на том спасибо — он приучал себя довольствоваться малым.

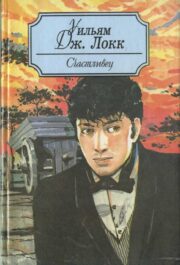
"Друг человечества" отзывы
Отзывы читателей о книге "Друг человечества". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Друг человечества" друзьям в соцсетях.