Кабинет барона был освещен. Только глубокая ниша полукруглого окна оставалась в тони, и в ней, наполовину скрытая тяжелыми портьерами, стояла Габриэль Она не в силах была оставаться на половине матери и пришла в кабинет опекуна, потому что эта комната выходила окнами в сторону города. Наступившая темнота мешала наблюдениям, да и вообще замок находился слишком далеко от центра города, чтобы можно было видеть происходящее, но из окна кабинета виднелась по крайней мере освещенная дорога, ведущая на замковую гору. Каждый, кто шел по дороге, был заметен уже издали, и потому молодая девушка не двигалась со своего места у окна.
Это была уже не прежняя Габриэль. Безмолвная и бледная, с судорожно сжатыми руками, она, прислонившись к окну, не отрываясь, смотрела на дорогу, как будто ее взор мог проникнуть сквозь окружающую тьму. Это полное страха ожидание довершило то, что началось несколько недель тому назад – пробуждение от детских грез, которыми молодая девушка так долго обманывала и себя, и других. Все в ней и вокруг нее сияло солнечным светом до той минуты, пока единственный взгляд не открыл ей всю глубину до сих пор неизведанной страсти. С тех пор на ее жизненный путь упала первая тень и больше уже не сходила с него. Беззаботность бабочки, стремящейся прочь от всего, что казалось печалью или горем, исчезла вместе с солнечными лучами, освещавшими ее жизнь и то, что пробудилось в ее очарованной душе, было новым страстным ощущением молодого существа, которому суждена своя доля страданий и борьбы. Теперь, когда Габриэль впервые дрожала за чужую жизнь, находившуюся в опасности, она почувствовала, что значит для нее эта жизнь…
Прошло еще полчаса, губернатор все еще не возвращался, и не было никаких известий о нем. Габриэль открыла окно, надеясь услышать стук экипажа, который привез бы того, кого она ожидала, но на пустынной дороге было тихо. Наконец послышались страстно ожидаемые звуки, но не стук колес экипажа, а голоса и шаги нескольких человек, выступивших из темноты. Они подошли ближе, голоса доносились явственнее, и Габриэль не смогла сдержать крик радости: она узнала высокую фигуру Равена, поднимавшегося пешком по дороге в сопровождении нескольких мужчин. Через минуту он вступил в ярко освещенное пространство перед порталом замка.
– Благодарю вас, господа, – сказал он, останавливаясь. – Вы видите, что не было необходимости провожать меня, мы прошли всю дорогу без малейшей помехи. Я говорил вам, что мятеж усмирен, – по крайней мере на сегодня.
– Да, вы, ваше превосходительство, подавили его одним своим своевременным появлением, – раздался голос советника Мозера. – Уже собирались громить тюрьму и освобождать заключенных, когда вы так неожиданно появились. Я наблюдал с величайшим изумлением, как вы, ваше превосходительство, одним своим личным авторитетом усмирили бунтующую толпу и водворили порядок, между тем как полицмейстер со всеми своими помощниками напрасно старался сделать это.
Полицмейстеру, также сопровождавшему губернатора, это замечание, по-видимому, не особенно понравилось, так как он ответил со злобой:
– Вы, конечно, лучше всех могли судить об этом, господин советник, с приятностью сознавая себя в безопасности за окном дома, тогда как барон Равен и я находились в самом опасном месте.
– Я убедился в полнейшей невозможности добраться до своего начальника, – возразил советник, – иначе непременно попытался бы.
– Полноте! – прервал его барон. – С вашей стороны это было бы совершенно бесполезным риском, в то время как от меня и от полицмейстера этого требовал долг. Итак, пока придерживайтесь указанных мною мер, – обратился он к остальным, – я думаю, на сегодняшнюю ночь этого будет достаточно. Завтра возвращается полковник Вильтон, и я немедленно переговорю с ним, чтобы раз навсегда прекратить подобные сцены. Если беспорядки повторятся в каком-нибудь другом пункте города, уведомьте меня. Покойной ночи, господа! – и, простившись со своими спутниками коротким поклоном, он вошел в вестибюль.
Габриэль тихонько закрыла окно и собиралась уже выйти из комнаты, чтобы барон не застал ее здесь, но было поздно. Она услышала в соседней комнате его шаги, а затем голос:
– Как? Баронесса Гардер не у себя?
– Фрейлейн в кабинете вашего превосходительства, – ответил голос лакея, – и ожидает там уже более часа.
На эти слова не последовало никакого ответа, но дверь быстро распахнулась, и в комнату вошел Равен. Первый его взгляд упал на Габриэль, которая вышла из оконной ниши и стояла теперь перед ним, дрожа всем телом. Он догадался, почему она именно здесь ожидала его, и в одно мгновение очутился рядом с нею.
– Я хотел пройти в твою комнату, но узнал, что ты здесь, – сказал он прерывающимся голосом. – У меня не было ни малейшей возможности послать тебе успокоительное известие – бунт только что усмирен.
Габриэль хотела ответить, но голос не повиновался ей, губы ее не могли произнести ни звука. Равен смотрел на милое бледное личико, на котором еще ясно можно было прочесть всю муку последних часов. Он сделал движение, как будто намереваясь привлечь девушку к себе, но обычное самообладание взяло верх. Протянутая рука опустилась, и только глубокий вздох вырвался из его груди.
– А теперь, Габриэль, – сказал он, – повтори мне те слова, которыми ты на дороге оттолкнула меня от себя.
– Какие слова? – спросила смущенная девушка.
– Ту неправду, которой ты пыталась обмануть и себя, и меня. Повтори мне теперь с глазу на глаз, что ты любишь Винтерфельда, одного его, и хочешь принадлежать ему одному. Если ты сможешь сделать это, то не услышишь более от меня ни слова, ни жалобы, но повтори мне свои слова еще раз.
Девушка сделала шаг назад.
– Оставь меня! Я… Оставь меня, ради Бога!
– Нет, я не оставлю тебя, Габриэль! – воскликнул Равен в порыве неудержимой страсти. – Надо же когда-нибудь высказать то, что ты давно уже знаешь и что я узнал с того дня, когда первый раз заглянул в эти детские, лучистые глаза. Но ведь из твоих собственных уст я услышал, что ты любишь другого. Человек с седеющими волосами, старше тебя на целых тридцать лет, с горячей страстью в сердце, не встречающей взаимности, рисковал быть смешным, если бы открыл тебе всю правду. Я же клянусь Богом, не хотел быть смешным!
Сегодня я видел, как ты дрожала за меня и хотела броситься навстречу грозившей мне опасности, чтобы только не разлучаться со мной, и теперь ты не решаешься повторить те слова, потому что чувствуешь – они ложь, за которую мы оба платим своим счастьем. Теперь наконец все должно быть выяснено между нами. Я люблю тебя, Габриэль, хотя и боролся с этой любовью всеми своими силами, всей своей гордостью. Чудное сновидение должно было кончиться. Я дорого поплатился за свою самоуверенность. В то время как я старался подавить страсть, она со страшной силой рвалась наружу, давая мне чувствовать всю свою власть. Я облекался в ледяную холодность и суровость в отношении тебя, искал спасения в разлуке, в борьбе с враждебными стихиями, которые как раз в это время со всех сторон обступили меня, но напрасно. Я расстался с тобой, но твой образ не покидал меня ни наяву, ни во сне; он преследовал меня и здесь, среди уединенных занятий, и среди самой кипучей деятельности, и когда я вступал в борьбу со своими противниками, твой образ появлялся передо мной, как солнечный луч, прорывающий грозовые тучи, окружившие меня, и увлекал все мои мысли и чувства к тебе, к тебе одной!
Ты должна стать моей – или нам придется расстаться навсегда, третьего решения быть не может, оно погубило бы нас. Ответь, Габриэль, кого ты любишь? К кому относились страх и нежность, которые я читал в твоих глазах? Я жду.
Габриэль, ошеломленная, слушала этот взрыв страсти, находивший слишком громкий отклик в ее собственном сердце. То, что высказывал Равен, было только отзвуком ее собственных чувств. Ока также боролась со своей любовью, также пыталась бежать от ее власти, уйти от которой оказалось невозможно. Перед этой горячей страстью, которая с какой-то первобытной силой вырвалась из души сурового человека, должно было исчезнуть все, что до сих пор казалось молодой девушке жизнью и любовью. Габриэль пробудилась, заглянув в глаза настоящей пылкой страсти, и хотя сознавала, что эта вулканическая натура со своей мрачной глубиной и всепожирающим пламенем скорее способна уничтожить ее, чем сделать счастливой, не чувствовала страха. То, что до этого дня она называла счастьем, побледнело и исчезло, как неясное видение, перед ярким светом, озарившим ее.
Она сделала последнюю попытку уцепиться за прошлое.
– Но Георг? Он любит меня и верит мне, он будет глубоко несчастлив, если я покину его.
– Не произноси этого имени! – сказал барон, и его взгляд загорелся ненавистью. – Не напоминай мне постоянно о том, что этот человек вечно стоит между мною и моим счастьем, – это может иметь для него роковые последствия. Горе ему, если он потребует, чтобы ты сдержала слишком поспешно данное слово! Я освобожу тебя от него волей или неволей. Что ты для этого Винтерфельда? Чем можешь ты быть для него? Может быть, он и любит тебя по-своему, но заставит тебя опуститься в будничную жизнь и ничего не даст тебе, кроме самой обыденной любви. Если он лишится тебя, то сумеет заглушить свое горе и найдет утешение в своей будущности, в своем призвании и в другой привязанности.
А я, – при этих словах голос барона упал, выражение ненависти исчезло с его лица и суровый тон сменился невыразимо мягким, – я никогда не любил, никогда не знал, что такое мечта и грезы. В неустанной погоне за властью и почестями я не знал потребности счастья, которая так поздно пробудилась во мне. Теперь, в осеннюю пору моей жизни, завеса упала с моих глаз, и я понял, что потерял и чем никогда не владел. Суждено ли мне действительно на веки потерять это? Не боишься ли ты той пропасти, что проложили между нами годы? Я не могу предложить тебе молодость – она прошла невозвратно, но то, что я теперь испытываю к тебе, горячее и сильнее всех юношеских грез и угаснет лишь с моей жизнью.

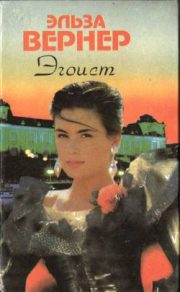
"Дорогой ценой" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дорогой ценой". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дорогой ценой" друзьям в соцсетях.