– Это невозможно.
– Почему, я тебе не нравлюсь?
– Как ты можешь не нравиться? Не в этом дело.
– А в чем?
– Ясмин ревновала меня к тебе. Если я возьму тебя в жены, это будет нечестно по отношению к ней.
– Но она умерла. Ей все равно. И, возможно, там, на небесах она перестала меня ревновать к тебе. Она теперь лишена человеческих слабостей.
– Возможно, но я-то пока здесь.
– То есть ты хочешь сказать, что ты никогда не женишься?!
– На тебе нет.
– Но это же нечестно.
– Должен тебе напомнить, что я еще ношу траур.
– Прости. Я умолкаю.
Когда они выбрались из подземелья, город лежал в руинах, и все вокруг было завалено мертвыми телами. Мертвецов никто не хоронил, и от ужасного запаха сводило дыхание. Татар не было, они ушли дальше на север. В течение трех дней город был подвержен грабежам и насилию. Затем, разрушив все, что они не могли унести с собой, монголы покинули Байлакан, оставив после себя только руины. Сначала направились к Араксу, перебрались на другой берег. И здесь им повезло. Они наткнулись на караван торговцев, имеющих пайцзу на свободное передвижение. Али договорился с караван-баши, выдав себя за купца, чьи товары пропали в разрушенном Байлакане. Караван шел в Дийар-Бакр. Али обещал щедро заплатить в Маййафарикине, где он сможет обналичить вексель в любой еврейской меняльной лавочке. Караван-баши поверил ему и предоставил им двух запасных лошадей. В одном газе от Маййафарикина Али рассчитался с караван-баши. Для этого ему не понадобилась еврейская контора, золотые динары были зашиты в его одежду. Но по понятным причинам он это скрывал.
Сколько он ни уговаривал Ладу вернуться на Русь к родителям, она наотрез отказалась от этого.
– Так что она сказала? – спросила Лада.
– Она напишет письмо правителю Дамаска Малику Ашрафу. Он главный в династии Айюбидов. Мне вообще-то казалось, что главный Малик ал-Камил, правитель Египта. Но ей конечно виднее. Мы отвезем это письмо в Дамаск. Все равно наш путь лежит через Сирию. Завтра я зайду к ней за письмом.
– Когда мы поедем?
– Я узнаю, идет ли караван в Сирию в ближайшее время.
– А без каравана сами не можем поехать?
– Можем, но это опасно. Сирия граничит с владениями крестоносцами. Несмотря на перемирие, стычки происходят постоянно. Я уже не говорю о разбойниках.
От низложенной царицы трудно ожидать человеколюбия, тем более к участи человека из окружения ее бывшего мужа, который в конечном итоге был причиной всех ее бед и лишений. Но в данном случае, Насави все рассчитал правильно, ибо он опытный царедворец, как никто знал о том, что благодарность никогда не была сильной стороной царствующих особ. Поэтому он не уповал на то, что Малика-Хатун, узнав о том, что он пострадал из-за нее, прибегнет к заступничеству. Но участие в его судьбе было лишним поводом напомнить о себе, и сельджукская принцесса, будучи человеком умным не преминет воспользоваться этим. Только напомнить, не просить, это было красноречивее просьбы. Малика-Хатун, сама, находясь в стесненном положении, просит за другого человека. Понимая, что он совершает какие-то избыточные поступки, Али все же отправился в тюрьму. Насави заметно обрадовался его приходу. Али невольно вспомнил, как он был недоволен, когда глава охраны султана привел его на ночлег в палатку, но напоминать об этом не стал. Он не был злопамятен.
– Спасибо, что пришел, – сказал Насави, – тебе удалось разыскать ее?
– Да. Я сделал все, что вы просили. Не сразу, правда, но она пообещала написать письмо Малику Ашрафу.
– Ты объяснил кто я, и за что попал в немилость.
– Да. Все как вы просили.
– Это правильное решение. Написать Малику Ашрафу. Сам Аллах послал мне тебя.
– Ну что вы, – возразил Али. – Аллаху нет никакого дела до нас. Иначе разве он позволил бы татарам вырезать целые города.
– Не гневи Бога, он послал нам испытания за какие-то наши грехи.
– Татары убивают без разбора, даже грудных младенцев, детей, у которых нет еще грехов.
Насави не ответил, лишь молча покачал головой.
– Я совершаю хадж, – сказал Али, – в Дамаске передам письмо и двинусь дальше в Мекку.
– Только умоляю тебя, не передавай письмо в канцелярию. Оно может лежать там так долго, что я здесь состарюсь. Постарайся передать его прямо в руки.
– Малику Ашрафу? – усомнился Али.
– Я знаю, ты сможешь, – убежденно сказал Насави.
– Иншаллах, – ответил Али.
Он протянул Насави сверток:
– Здесь еда, я купил на рынке для вас – хлеб, сыр, зелень, вареное мясо.
– Спасибо, – сказал растроганный Насави, – не знаю, как и благодарить тебя.
Али собрался уходить, простился, но Насави окликнул его:
– Странно, что ты держишь обиду на Аллаха, – сказал он, – а сам едешь в Мекку.
– В этом нет ничего странного, – невозмутимо ответил Али. – Я надеюсь достучаться до него. Там все- таки поближе будет.
Малика-Хатун сдержала свое слово, на следующий день, она приняла Али и собственноручно отдала ему в руки письмо. Али поблагодарил ее от имени Насави.
– Будет ли у вас, ваша светлость, еще какое-нибудь поручение дополнительно?
Малика-Хатун удивленно взглянула на него.
– Отрадно видеть человека, радеющего за интересы других людей.
Али поклонился.
– Скажи честно, – спросила Малика, – каков твой интерес в этом деле?
– Совершенно никакого, – искренно ответил Али.
– Тогда зачем ты это делаешь?
– У меня недавно при родах умерла жена, – неожиданно для себя сказал Али, – в моей жизни образовалась пустота. И мне нужно ее чем-то заполнить. К тому же вы сами сказали, что это по дороге, мне будет нетрудно это сделать.
Малика удивленно взглянула на Али. Ответ оказался неожиданным и для нее тоже.
– Начало твоей фразы противоречит ее концу. Но мне жаль твою жену. Когда окажешься в Дамаске, не отдавай письмо в канцелярию, постарайтесь добиться аудиенции у Малика Ашрафа. Я желаю тебе легкого пути и удачи.
Али поклонился и ушел. Дома он сказал Ладе:
– Может быть, рассказать ей о казне Узбека. Все- таки она была его женой и имеет право на его долю.
– Прежде всего, она была причастна к его смерти, – холодно ответила Лада. – И откуда у вчерашних простолюдинов такая жалость к царицам?
Али промолчал.
В море
В корзине Фомы оказался большой шмат вяленого мяса, хлеб, круг сыра, несколько луковиц, сырые яйца и редька.
– А это что? – спросил Егорка, указывая на бочонок.
– Вино, – ответил монах.
– Так много.
– Недорого просили, да и посуды у меня не было, чтобы в розлив взять.
– А ты что же пить здесь собираешься?
– А по-твоему я эту бочку взял, чтобы руки себе занять?
– Судя по тому, что капитан мусульманин, то здесь не особо разгуляешься, – заметил Егор. – Хотя знал я одного хафиза, который перед каждой выпивкой говорил, что не пьет.
– Это ничего, – сказал Фома, – дождемся темноты и выпьем. Ночью, небось, все спать будут.
Егорка засмеялся.
– Что? – удивился монах.
– А ты что же ночью спать не собираешься?
– Отчего же, собираюсь. Но не сразу. Видишь ли, брат мой во Христе, в монастыре мы только и делаем, что занимаемся умерщвлением плоти. Где же мне еще разговеться, как не в пути?
– Понятно, – сказал Егор, – только не брат я тебе.
– Христиане – все братья, – кротко ответил монах.
– Увы, путник, я не христианин, – сказал Егор.
Здесь в стране кипчаков, он мог признаться в этом, не боясь, что на него донесут властям.
– В кого же ты веруешь, сын мой, – вопросил монах, – неужто в Магомета?
– Я придерживаюсь веры наших с тобой предков, – заявил Егорка.
– Да, но Русь крестилась.
– Русь крестилась, а мы не стали.
Егорка редко вспоминал, а тем более говорил о своей вере. Но если речь заходила о религии, никогда не скрывал ничего. Христианство, став государственной религией на Руси, несмотря на внешнее миролюбие, проявило нетерпимость к инакомыслию.
– Ну что же, – сказал Фома, – это дело такое, интимное можно сказать, дело твоей совести.
– Я тоже так считаю, по мне, был бы человек хороший.
– И я так думаю, вот за это и выпьем. Когда все уснут, – добавил монах.
Тем временем погрузка закончилась. Капитан отдавал команде последние распоряжения. На борт поднялся таможенный чиновник, осмотрел груз, получил полагающую ему мзду, дал добро. Капитан махнул рукой. Матросы отвязали канаты, убрали трап, и, упираясь шестами в пристань, стали отталкивать судно. Когда судно отдалилось от причала на длину шестов, в дело вступили гребцы. Кормчий налег на руль, в несколько взмахов они выровняли корабль в необходимом направлении и слаженными ударами весел погнали его в открытое море. Послюнявив палец, капитан определил направление ветра и дал команду поднять парус. Двое пассажиров с интересом следили за действиями матросов. По просьбе монаха Егорка спросил у проходящего мимо капитана, когда он предполагает быть в Персии? Вопрос капитану не понравился, нахмурившись, он ответил, что Аллаху одному известно.
– Моряки, люди суеверные, – передавая слова капитана, добавил Егорка.
Поскольку лицо монаха ничего не выражало, Егорка продолжал:
– Мусульмане разделяют людей на три категории.
– Интересно, на какие же? – спросил Фома.
– Живые, мертвые и те, кто плывет по морю, то есть, находятся между жизнью и смертью.
– Это я уже понял, – мрачнея, сказал Фома.
– Кроме того, в мусульманском судопроизводстве есть категория свидетелей – добропорядочных людей, которые зарабатывают себе этим делом на жизнь, участвуя на той или иной стороне процесса. Так вот в свидетели никогда не допускали школьных учителей и моряков. Первых, по причине их безнадежной глупости и несостоятельности. Поскольку, считалось, что человек настолько никчемен, что не смог найти себе другого занятия в жизни. А вторых – потому что они были безответственны, то есть в любой момент могли утонуть, не ответив за свидетельство.

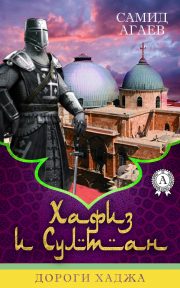
"Дороги хаджа" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дороги хаджа". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дороги хаджа" друзьям в соцсетях.