Кришан Чандар
Дорога ведет назад
Дорога ведет назад
ЧАСТЬ 1
Дикарь, как все его звали на деревне, был молодой парень, ладно скроенный, всегда веселый и беззаботный. Отец не раз пытался направить сына на путь истинный, но, как это обычно бывает с мальчишками, у которых матери умерли рано, душа его не лежала к дому. Он целыми днями блуждал по лесу и не представлял себе, как можно с утра до позднего вечера, словно бык, ходить за плугом. Какие только уловки он не придумывал, чтобы сбежать с поля!
Больше всего на свете он любил лес. Их деревня была расположена на горном плато; выше начинался густой лес, а внизу, разрезая горы, лентой вилась шоссейная дорога. Дикарю нравились и лес, и эта дорога. Он мог без устали бродить по лесу, и как горожане знают улицы, переулки, тупики в родном городе, так он знал в нем каждое деревце, каждую нору, определял зверей по шороху их шагов, знал, что в полдень никого из них не увидишь у ручья, бегущего в чаще леса, потому что в это время приходит на водопой тигр. Дикарь знал, что весной, когда на виноградных лозах, обвивающих сосны, наливаются соком блестящие сладкие ягоды, медведи покидают свои берлоги высоко в горах и спускаются вниз в поисках меда, винограда и орехов. Весной ярко светит солнце и в лесу все погружено в легкую зеленоватую дымку, невинные фиалки удивленно оглядываются вокруг своими несколько испуганными глазками, а в лунные ночи в зарослях высокой травы, опьяненные их свежим запахом, исполняют свой прекрасный танец стройные лани. В такие ночи Дикарю почему-то хотелось плакать, он и сам не понимал почему.
Любуясь танцами ланей и газелей, он невольно подносил к губам свирель. Ее нежные звуки наполняли лес и неслись далеко-далеко. Они достигали деревни, и тогда смолкали разговоры, застывала в воздухе рука, несшая ко рту ложку, просыпались те, кого уже сморила усталость. Свирель обращалась к каждому, кто ее слышал. Она будила в людях мечты, которые никогда не сбудутся, желания, оседающие на сердце печалью и затуманивающие взгляд, надежды, под сенью которых человек может вынести любые несчастья и трудности.
Односельчане часто осуждали отца Дикаря за то, что он не заставляет сына работать, но, заслышав свирель юноши, прощали ему все его грехи.
И все-таки он не был лентяем и бездельником. Если отец бывал болен, Дикарь работал в поле, приносил из леса хворост, заботился и о корме для быков. Скашивая сочную траву на крутых горных склонах, он порой рисковал свернуть себе шею. Он приносил из леса и медовые соты, и лесные орехи, и крупные коричневые кисти винограда. Осенью он покрывал крышу их глинобитной хижины камышом, сверху засыпал его землей и так хорошо ее утрамбовывал, что зимой ни одна капля не просачивалась в хижину. А когда горные склоны, отроги, долины, поля, лес — все вокруг покрывалось снегом и сковывалось льдом и на ветвях деревьев поблескивали снежинки, будто облака оставили на них следы каких-то неизведанных судеб, Дикарь покидал деревню и спускался вниз, к шоссе. Усевшись на выступе скалы, он смотрел на сверкающую в солнечных лучах голубую ленту дороги, бегущую куда-то далеко-далеко от этих заснеженных мест, в город, где никогда не бывает снега, где день сверкает в золотистых лучах солнца, а ночь — в электрических огнях. Постели там у всех такие мягкие и теплые, что стоит лишь опустить голову на подушку, как человек засыпает, не то что в деревне: лежишь, укутавшись в ветхое одеяло, и щелкаешь зубами от холода. Сам-то он молод, кровь у него горячая, и ему не страшна стужа, а вот отец… Когда Дикарь видел, как у отца зуб на зуб не попадает от холода, видел его посиневшие руки и ноги, ему хотелось бежать в город, забрать в каком-нибудь уютном домике теплое одеяло и укутать в него отца с головы до ног. Но это были только мечты. Отец его, как и другие крестьяне, был очень беден, и постелью ему служила прошлогодняя зловонная, полусгнившая овечья шкура.
Дикарь был в том возрасте, когда особенно приятно помечтать, когда все трудности кажутся легко преодолимыми. Он не боялся никого — ни ростовщика, ни отца, ни его сварливой сестры, которая дважды в день приходила к ним приготовить пищу. Ее на деревне остерегались, говорили, что у нее дурной глаз — стоит ей раз сердито взглянуть на человека, и тот вскоре умирает. Но Дикарь не верил этому. Да и что может его испугать, если он не робеет перед медведем и пантерой? Правда, и в его сердце иногда закрадывался страх — страх перед стройными, красивыми девушками деревни. О чем говорят их огромные ясные глаза, блестящие, словно голубой водопад? И как грациозно изгибается точеный стан под тяжестью кувшина… Почему девушки улыбаются ему, направляясь цепочкой к ручью за водою, а потом громко смеются, переговариваясь между собой? В эти мгновения кажется, что воздух полон маленьких веселых смешинок и все вокруг жужжит, словно улей. Дикарь не мог выносить смеха и шуток девушек. Он терял дар речи и застывал на месте, словно был не человеком, а деревцем, вдруг выросшим в кругу лесных фей, а потом, когда девушки слишком уж откровенно начинали его рассматривать, обмениваясь вслух замечаниями, ему казалось, что в него со всех сторон летят тысячи стрел. Тогда он срывался с места и убегал, унося в лес свое громко стучащее сердце. А девушки кричали ему вслед: «Дикарь! Настоящий дикарь!»
Был ясный весенний день. Снег уже таял, на величественных горных склонах пробивалась зеленая нежная травка, на чинарах распустились листочки, ветви алычи покрылись белыми цветами, и в воздухе стоял такой аромат, будто тысячи благоухающих бабочек кружились над головой. Дикарь с топором на плече шел нарубить сучьев. Внизу, у самой дороги, располагалась чайная Гангу; сквозь стены ее, сплетенные из обструганных сосновых веток, легко проникал пьянящий запах жареного мяса. Шоферы и их помощники любили эту чайную. Гангу был простой горец. Цены у него в чайной были невысокие, молоко — неснятое, чай — свежий, пакори[1] — горячие, а, кроме того, с Гангу и поговорить было приятно; в самом его облике была какая-то безыскусственность, и его чистосердечие поражало шоферов. Он был совершенно лишен хитрости городского жителя и поэтому казался им каким-то необыкновенным.
Каждый день Дикарь приносил в чайную связку хвороста. Летом он получал за это три анны[2], зимой — четыре и в придачу чашку чая. Иногда Гангу давал Дикарю даже несколько пакори, а порой ему перепадал и кусочек мяса, поэтому Дикарь был очень доволен Гангу и приносил ему такие связки хвороста, за какие другой потребовал бы не меньше шести анн. Гангу тоже был доволен Дикарем. Ну а раз обе стороны довольны, другой дровосек там не нужен.
Утро было таким, что хотелось петь. Дикарь шел босиком, и трава, покрытая росой, щекотала ему ноги. Он повесил топорик на плечо и беззаботно наигрывал на свирели. У девушек, набиравших воду в ручье, замерли сердца. Зов свирели проникал в их душу и пробуждал какие-то неясные чувства, вдруг фейерверком взмывавшие к небу. Невинные, беспомощные, плененные волшебной мелодией, девушки, сердца которых постепенно наполнялись пьянящим нектаром и распускались зелеными лепестками весны, застывали на месте. Теперь, после зова свирели, так трудно нести этот тяжелый кувшин!
— Дикарь! Поди сюда, помоги поднять кувшин на голову!
Он остановился, не отрывая свирели от губ. Это к нему обратилась златовласая стройная девушка с огромными глазами и ярко-красными лепестками губ, дочь старосты. Кувшин стоял на земле, а она грациозно изогнулась над ним, словно натянутый лук. Одна рука на кувшине, другой она звала Дикаря.
Несколько мгновений он стоял остолбенев, не спуская с нее восхищенных и удивленных глаз.
— Ну иди же! — настойчиво звала девушка. Но он не двинулся с места. — Ну, Дикарь, помоги поднять кувшин!
Вдруг он резко повернулся и стремглав кинулся в лесную чащу. Он бежал, не видя ничего вокруг, а девушка у ручья выпрямила свой стан, словно выпущенная из лука стрела. Сердце ее наполнилось тоской. Она сердито топнула ножкой, и в ответ вода радостно забилась вокруг нее, будто фонтан девичьего смеха.
— Вот дикарь, настоящий дикарь!
Она подняла с земли кувшин, поставила его на голову и пошла вслед за подружками. В волосах у них были белые цветы яблонь, под ногами шуршали и весело перекатывались камешки, и их стук отдавался в сердцах девушек каким-то трепетным желанием. Удивленно и печально глядели они по сторонам, и каждая из них спрашивала свое сердце: «И почему это весна приносит печаль?»
Давно уже настал полдень, а Дикарь все еще работал. Он срубал деревце као — отец просил принести из леса прочную толстую палку, чтобы заменить рукоятку плуга. Корни дерева были изъедены красными муравьями, но древесина — прочная и твердая. Дикарю нравилось пробовать свою силу на таком дереве, ведь срубать мягкие и хрупкие ветви сосны было проще простого, да из них и не сделаешь рукоятки. Он с силой взмахнул топором и вонзил его в ствол, но когда собирался сделать другой взмах, на плечо его легла чья-то рука. Обернувшись, он увидел свою тетку.
— Что случилось, тетушка?
— Отца ужалила змея! — Женщина бессильно опустилась на землю и зарыдала.
Дикарь застыл на месте, потом воткнул топор в ствол дерева и стремглав помчался к деревне.
— Отец! Отец!
Он добежал до окраины деревни. Крестьяне молча уступали ему дорогу, боясь взглянуть на него.
— Где мой отец?
— У дома Бер-джи, под орешиной, — ответили ему. Дикарь, широко раскинув руки, вихрем помчался туда, громко крича:
— Отец, отец! Я иду!
Если он хотел этим криком спугнуть смерть, то напрасно. Отец лежал уже мертвый на скамейке под ореховым деревом. Тело его посинело. Дикарь рванулся к нему, схватил на руки и прижал к груди. Ведь он был ему всем на свете — и отцом, и матерью, и пока отец был жив, Дикарь мало думал о нем. Ему казалось, что отец будет жить вечно, будет пахать за него в поле, собирать урожай, а тетка будет печь золотистые лепешки. И вдруг отец умер — ужалила змея! А Мишар-джи все твердил:

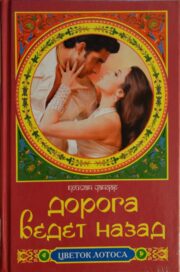
"Дорога ведет назад" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дорога ведет назад". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дорога ведет назад" друзьям в соцсетях.