Мы стали притчей во языцех. По утрам в мясную лавку Леоноры выстраивалась очередь, чтобы взглянуть на мою маму и вынудить её хоть немного излить душу. Люди, ещё накануне не отличавшиеся кровожадностью, рвали на части несколько оброненных ею слезинок, несколько исторгнутых ею, по-матерински возмущённой, жалоб. Домой она возвращалась измочаленная, запыхавшаяся, как уходящий от погони зверь. В кругу семьи, рядом с мужем и младшей дочерью, она вновь преисполнялась мужества и бралась за обычные дела: крошила хлеб для кур, поливала жаркое на вертеле, во всю силу своих прекрасных ручек сбивала ящичек для кошки, готовой окотиться, желтком с ромом мыла мне голову. Для облегчения своего горя она измыслила одну жестокую штуку, к которой иногда прибегала: пение. По вечерам она поднималась на второй этаж, чтобы самой закрыть ставни и взглянуть на сад и дом, где теперь жила моя старшая сестра; у наших садов была общая стена. Маме видны были клубничные грядки, посадки яблонь в форме «кордон», кусты флоксов, три ступеньки, ведущие к крыльцу-террасе, уставленному кадками с апельсиновыми деревьями и тростниковыми креслами. Как-то вечером – я стояла позади мамы – на одном из этих кресел мы узнали фиолетовую с золотом шаль, появившуюся у нас в доме в последнее выздоровление моей длинноволосой сестры. Я вскричала: «Смотри! Шаль Жюльетты!» – но не получила ответа. Когда же мама закрыла все ставни и ушла, вместе с её шагами в коридоре смолк какой-то странный отрывистый звук, похожий на задушенный смешок. Прошли месяцы, всё оставалось по-прежнему. Неблагодарная дочь жила под своей крышей, проходила мимо нашего крыльца, словно аршин проглотила, однако, стоило ей невзначай завидеть маму, она убегала, словно боялась получить пощёчину. Я без волнения встречалась с ней, удивляясь лишь, какой чужой она стала в этих своих незнакомых шляпках и новых нарядах.
Прошёл слух, что ей скоро рожать. Тогда я почти не думала о ней и потому не придала значения тому, что именно в это время мама стала страдать нервными обмороками, резями в желудке и сердцебиением. Помню только, что вид сестры, изменившейся, отяжелевшей, вселил в меня смятение и стыд.
Прошло ещё какое-то время… С мамой, по-прежнему живой, активной, стало что-то твориться. Однажды, например, она вместо сахара положила в пирог с клубникой соли и, ничуть не расстроившись, встретила упрёки отца с замкнутым и ироничным выражением лица, которое меня потрясло.
Как-то летним вечером – мы как раз заканчивали ужинать – к нам зашла соседка с непокрытой головой, деловито пожелала нам доброго вечера и, шепнув маме на ушко несколько слов, тут же ретировалась. У мамы вырвалось: «Боже мой!» Она так и осталась стоять, как стояла, опершись о стол.
– Что случилось? – поинтересовался отец.
С трудом отведя взгляд от лампы, она проговорила:
– Началось… там…
Я всё поняла и раньше обычного ушла к себе в спальню – одну из трёх комнат в доме, чьи окна выходили в сад «что-напротив». Потушив лампу, я открыла окно и стала наблюдать за загадочным, наглухо закрытым на все запоры домом в конце фиолетового при свете луны сада. Я вслушивалась и, чтобы унять сердцебиение, прижималась к подоконнику. Деревенская ночь предписывала тишину, я слышала лишь собачий лай и поскрёбывание когтей кошки о кору дерева. Чья-то тень в белом пеньюаре – я тотчас узнала маму – скользнула через улицу и вошла в сад «что-напротив». Подняв голову к стене, разделяющей сады, она измерила её взглядом, словно надеясь преодолеть. Затем походила по короткой аллейке посреди сада, машинально отломила веточку пахучего лаврового дерева и смяла её в руках. В холодном свете полной луны мне был виден каждый её жест. Остановившись, она стала смотреть на небо и ждать. Долгий крик, ослабленный расстоянием и запертыми дверьми, долетел до неё по воздуху одновременно со мной, и она яростно скрестила руки на груди. Второй крик, прозвучавший на той же ноте, как начало какой-то мелодии, повис в воздухе, за ним последовал третий… И тут я увидела, как мама сжала руками свои бока, стала кружиться на месте и притопывать; тихим стоном, покачиванием своего измученного тела и своими беспомощными в данном случае руками, всей своей материнской болью и силой она стала помогать, как бы дублируя её, неблагодарной дочери, что рожала вдали от неё.
«ПАРИЖСКАЯ МОДА»
Двадцать су – места в первом ряду, десять су – во втором, пять су – детские и стоячие места». Таким был некогда тариф на спектаклях бродячих комедиантов, на один вечер заглядывавших в наш городок. Глашатай из мэрии, в чью обязанность входило предупредить тринадцать сотен душ главного города кантона, часам к десяти утра под барабанную дробь объявлял о приезде артистов. По мере его продвижения город охватывала горячка. Дети моего возраста начинали с пронзительным криком скакать на месте. Девушки в рожках бигудей с минуту неподвижно стояли на месте во власти счастливого оцепенения, затем кидались бежать, словно спасаясь от града. Мама для виду принималась жаловаться: «Великий Боже! Киска, ты же не потащишь меня на "Казнь женщины"? Это такая скучища! И казнённой буду я…» – а сама уже готовила ножницы и инструменты, необходимые для того, чтобы самой сделать гофре на своём самом красивом кружевном корсаже из батиста…
Дым от ламп с жестяными рефлекторами, банкетки жёстче, чем школьные, облупившиеся декорации на клеёнке, актёры, угрюмые, как звери в неволе, – все вы своим неподражаемым убожеством облагораживали удовольствие, испытанное мною на тех постановках… Я, тогда ещё кроха, холодела на них от ужаса, если давали драму, так и не смогла развеселиться ни на одном из жалких водевилей, так и не смогла расхохотаться над номерами тщедушного, в чём душа держится, клоуна.
Какой случай привёл к нам однажды настоящую труппу бродячих комедиантов? Они явились без декораций и костюмов, зато все опрятно одетые, неизмождённые, главным же у них был человек, своими сапогами и манишкой из белого пике напоминающий наездника. Мы – папа, мама и я без колебаний отдали по три франка каждый, чтобы посмотреть «Нельскую башню».[41] Однако большинство наших прижимистых земляков ужаснулось новому тарифу, и потому на следующий день труппа уже покинула нас и разбила свои шатры в X. – соседнем городке, притаившемся в тени замка, распростёршегося у ног его титулованных обитателей, городке с аристократическими замашками и не лишённом кокетства. «Нельская башня» собрала полный зал, и после спектакля владелица замка публично поздравила с успехом господина Марселя д'Аврикура, исполнителя главной роли, долговязого молодого человека, приятного в обхождении, обращавшегося со шпагой, как с тросточкой, и под густыми бровями скрывающего прекрасные глаза антилопы. Но и без того на следующий вечер, когда давали «Денизу»,[42] зал был набит битком. А потом – это было в воскресенье – господин д'Аврикур, во фраке присутствовавший на одиннадцатичасовой обедне, протягивал чашу со святой водой двум красным как мак молодым девушкам и, щадя их, не поднимал на них глаз – его такт был оценен всем X. и превозносился ещё несколько часов спустя на дневном представлении «Эрнани»,[43] когда зал уже не смог вместить всех желающих.
Жена городского нотариуса была не робкого десятка: она копировала платья «этих дам из замка», подыгрывала себе на рояле и носила коротко подстриженные волосы, словом, позволяла себе некоторые детские шалости и выходки. На следующее утро после «Эрнани» она отправилась заказать слоёный пирог в Почтовую гостиницу, где как раз остановился господин д'Аврикур. Вот что она там услышала:
– На восемь персон, госпожа? В субботу, к семи. Не беспокойтесь, заказ будет выполнен! Минутку, я только налью горячего молока господину д'Аврикуру и запишу ваш заказ… Да, он проживает здесь… Ах, госпожа, ни за что не подумаешь, что комедиант! Голос, как у девушки… Отобедает, погуляет и тотчас к себе, за рукоделие.
– Какое «рукоделие»?
– Он вышивает! Фея, да и только! Заканчивает накидку на пианино крестом, для выставки. Дочка перевела рисунок…
Жена нотариуса в тот же день подстерегла господина д'Аврикура, меланхолично бродившего под липами, завязала с ним разговор и поинтересовалась некой накидкой на пианино, чей рисунок и исполнение… Господин д'Аврикур покраснел, прикрыл рукой свои глаза газели, издал несколько странных звуков и в замешательстве проговорил:
– Ребячество… поощряемое парижской модой… Грациозно-жеманный жест, напоминающий взмах опахалом, закончил фразу. Жена нотариуса ответила приглашением на чай.
– О-о! Чай в тесном кругу, каждый может прийти со своим изделием…
Всю неделю «Зять господина Пуарье»,[44] вместе с «Эрнани», «Горбуном»[45] и «Двумя скромниками»[46] шли с неизменным аншлагом, на волне энтузиазма неугомонной публики. Поочерёдно у почтарши, аптекарши и фининспекторши господин д'Аврикур демонстрировал цвет своих галстуков, манеру ходить, приветствовать, перемежать свой заливистый смех пронзительным хохотком, подбочениваться, как на эфесе шпаги, держа руку на бедре, и вышивать. Знавал наездник в сапогах и сладостные минуты: когда посылал денежные переводы в «Лионский кредит»[47] или сиживал в кафе «Жемчужина» в компании исполнителя роли благородного отца, клоуна с большим носом и слегка курносой кокетки.
Именно это время и выбрал хозяин замка, отсутствовавший в течение двух недель, чтобы вернуться из Парижа и выслушать из уст нотариуса хвалу в честь заезжего гостя. Жена нотариуса в это время как раз разливала чай в гостиной. Возле неё сидел письмоводитель нотариуса – честолюбивый костлявый верзила – и считал стежки на кисее, натянутой на пяльцах. Сын аптекаря – кутила с физиономией кучера – вышивал вензеля на скатерти, а толстяк Глом, вдовец на выданье, реставрировал с помощью шерстяных ниток тёмно-красного цвета и цвета старинного золота клетчатую ткань на тапке. Даже дряхлый господин Деманж трясущимися руками пробовал себя в вышивке по канве… Господин д'Аврикур, стоя, декламировал стихи под фимиам праздных вздохов присутствующих дам, на которых не задерживался его восточный взгляд.

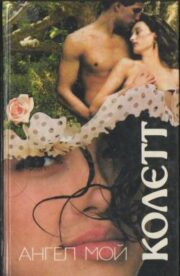
"Дом Клодины" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дом Клодины". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дом Клодины" друзьям в соцсетях.