– Подержи-ка. Сейчас она выпадет…
Но плита не выпала. Она провернулась вокруг укрытой где-то в глубине стены поперечной оси и нависла над головой Тараса, как козырек. А за плитой открылся… не лаз, а узкий колодец с гладкими стенами, уходивший вниз. Никакой лестницы там явно быть не могло. Названые братья озадаченно переглянулись.
– Это не ход, – догадался Ежи, – то есть люди через него не ходили. Подъемник тут был.
– Для чего?
– А для чего тут все? Для стрелков. Там, где ты сейчас сидишь, раньше, наверное, помещался ворот с рукоятью, а в колодце подъемника большая бадья ходила. Колчаны в нее загружали, огнеприпасы для ручниц и пушицы… может, кувшины и фляги с водой тоже, чтоб по лестнице не таскать.
– Ясно… Как думаешь, нам сюда пролезть?
– Отчего же нет. Тот шнур, на котором мы мешки поднимали, приладим, да еще присоединим к нему те, на которых дощечки вывешивали, они ведь больше не понадобятся… Это будет как по вантам лазать.
– Пожалуй, так…
Ежи уловил неуверенность в голосе побратима и понял, что по вантам тот, поди, в жизни не лазал, не такая у чаек парусная оснастка, если вообще есть. Но ничего, парень он ловкий и цепкий.
А шнуры прочные. Шелковые они.
Вообще-то, любопытно. Шелк, он ведь чуть ли не как серебро дорог; а тут близняшки ничего другого и не приносили. В каких же таких палатах они живут, что там проще несколько длинных шелковых шнуров стащить (и ведь не хватились же их!), чем добыть пеньковую веревку или, скажем, волосяной аркан?
И кто же они такие, эти девушки из дворца? То, что они не просто приживалки, стало ясно сразу. Но кто? Высокородные паненки? Ясновельможные кнесинки даже?
Не важно. Кто бы они ни были – это их девушки…
В это самое время Доку-ага стоял в одной из комнат внутренних покоев, куда обычным слугам, даже евнухам, путь заповедан. Сюда имели право входить, кроме Хюррем-хасеки, лишь он сам, няня и кормилица его девочек – ну и сами девочки, конечно.
Его девочки…
К чему-то они здесь готовились. Что-то необычное делали.
На нижнем столике лежал старый пергамент: обрывок свитка без начала и конца. Доку только бегло скользнул по нему взглядом: читать по-арабски он так и не выучился. И вдруг словно бы призрачный голос зашептал ему в уши: «…Вот потому Смерть и меняет свое обличье. И хотя Азраил в конечном счете побеждает всегда, несомненно, правы те, кто продолжает сопротивляться ему. Вот уже близок мой срок, правнуков я увидел, а ведь впервые Смерть стремилась погубить меня в то время, когда мне было двадцать лет.
Был я уже в ту пору крепким борцом, подобно и самому Азраилу; во время одной из битв брат мой напал на врагов, однако Смерть одолела его, и погиб он. Тогда в гневе встал я во весь рост, ибо то была битва в пешем строю, прокричал громко свое имя, которое сейчас не приведу в этих строках, добавив: «И раз уж тебе, Азраил, я теперь известен, явись сюда и мы встретимся в схватке!» Но Смерть не встретилась со мной лицом к лицу, а ответила ливнем стрел – плотным, непрерывным. Горстка храбрецов откликнулась на призыв мой: выкрикивая свои имена, смело, не пригибаясь под обстрелом, бросились они вперед, и я устремился с ними, чтобы поддержать их в атаке. Однако много прежде, чем добежали мы до врага, все они, кроме меня, уже были мертвы. Остальным же воинам моим стало ясно, что за мной идет Азраил, и они кричали мне не приближаться к ним, дабы и их не настигла Смерть, которая сгубила в тот день многих прекрасных бойцов в наших рядах. Однако я бился с Азраилом день и ночь, пока Смерть не обессилела; упорство ее истощилось, и она покинула меня, однако с явным намерением вскоре вернуться в бой. Тогда на моих доспехах насчитали восемь следов от стрел и три клинковых надруба; две раны дошли до тела, но ни одна из них не стала смертельной или хотя бы тяжелой.
Миновало лишь два года, как Смерть возвратилась на битву со мной. И битва та началась страшнее, чем в первый раз. Азраил теперь избрал иное место для схватки и других врагов как свое средство. Он бросал мне вызов, гордясь многочисленностью подданных своих и будучи уверенным в победе. Но я принял вызов Смерти. Я не был столь самоуверен, как она, но все же превзошел ее повторно. Слышал я хохот Азраила и видел его бойцов, подобно саранче многочисленных, опорой же мне было лишь мужество и небольшая группка сомкнувшихся рядом храбрецов. Тогда я принял решение не говорить себе даже в мыслях, что это – Смерть моя и моего войска, чтобы не предаться отчаянию. И принял также решение не защищаться, но лишь разить. Однако Азраил вновь косил моих бойцов, не задевая меня самого. И все же была надежда: солнце шло к горизонту стремительно, словно бы тоже сраженное меткой стрелой. Наступит ночь, а вместе с ней возможность остаться в живых. Но прежде чем ночь настала, Смерть пришла в неистовство, испытывая все больший гнев на нас, весь день противостоявших ей столь смело. Нацелила на меня удар одного из своих бойцов, стремясь разрубить до сердца, но взмах клинка оказался неверен и лишь отсек левую руку ниже локтя. Азраил, повторюсь, не всегда разит удачно. В этот раз он отнял у меня возможность вести бой дальше, но не саму жизнь и не возможность воевать вообще. И еще я упоминал, что не всегда Смерть храбра и готова на поединок – случается, она, напротив, труслива. Она наносит удары в спину, исподтишка кусает вновь и вновь, скрывается от противника под землей.
Но в тех случаях, когда Азраил начинает схватку открыто, он появляется на коне, черном или белом, бесстрашно обнажает свой клинок, оказавшись лицом к лицу даже с прославленными воителями. В иных же случаях возникает бесшумно за спиной, не бросая вызов открыто; не рубит, но жалит; кусает в пятку, а не бьет в шею.
Но я, пусть и близок к завершению мой путь, по-прежнему противостою Азраилу как воину. Так что придется ему прийти ко мне в ином обличье, явив прелесть несказанную, сладость поцелуя, от которого нет противоядия…»
Доку встряхнулся – и наваждение исчезло. Тогда он пожал плечами. В том, что касалось смерти, его трудно было чему-либо еще научить, человек ли возьмется делать это или призрак.
Вот тут-то и сверкнул на листе пергамента кровавый оттиск. Всего лишь на миг, прежде чем исчезнуть.
А второй отпечаток появился на стене покоев, прямо перед выходом.
Третий – в дальнем конце коридора.
Четвертый…
А дальше было так: внизу оказалось темно и тесно, не замахнуться толком молотком, не понять, куда лучше направить долото. Правда, не понять и не замахнуться – это лишь в первые минуты. Потом они все же приноровились. Тарас приладился работать на ощупь, Ежи налег на плиту, ощутил, как она стала поддаваться…
И еще он вдруг скорее ощутил, чем услышал, скрежет сверла, проникающего в стык плит извне. Это снаружи кто-то подступился с буравом. Или пытался подступиться.
Но толчок уже было не остановить. Ежи вышиб плиту плечом и вывалился вместе с ней, буквально налетев на стоящего у изножья башни человека, сгреб его в объятия, ткнувшись лицом в его лицо, как для поцелуя…
В его лицо? В ее лицо!
– Меня зовут Орыся, – прошептала она. – Мы еще не на воле. Но так – правильно. А теперь разожми свои лапы и слезь с меня, пока тебя не загрызли!
– Кто? – ошеломленно пробормотал Ежи.
– Точно не я. Но есть тут один, кто прямо-таки жаждет тебя загрызть. Так что лапы прочь и слезай – медленно, осторожно…
И вдруг, зажмурившись, быстро поцеловала его.
4. Время выбора
Воздух тут, снаружи, был слаще, что ли? И звезды с луной ярче? Ну, луна в темницу старалась не слишком-то и заглядывать.
Или просто так казалось после неволи?
Недавние пленники ошарашенно и даже с некоторым удивлением оглядывались вокруг, вдыхая полной грудью свежий, пропитанный иными, не тюремными ароматами, воздух. Свобода!..
Даже на слух это слово столько всего в себя вбирало, столько значило, что нет и не будет его важнее на свете. Особенно для них, после всех злоключений, с ними случившихся, после столь ненавистного плена. Свобода!..
И Ежи, и Тарас словно опьянели: голова кружилась похлеще, чем от вина. Но такое было обоим в радость, нисколько о том они не жалели.
Свобода!..
Но ведь еще не настоящая, не полная, так же? Разия, Орыся то есть, она ведь сказала: «Мы еще не на воле».
Девушка, тоже сама не своя от удачно начавшегося побега, нашла в себе силы произнести твердо и решительно:
– Потом надышитесь. Сейчас спешить надо. Молотки не забудьте, оба, и два зубила тоже! А пока не пройдем Грозную башню и не доберемся до байды, даже думать не смейте о свободе!
И то верно. Многие поплатились головой, преждевременно радуясь, что сумели избежать той участи, которая была им уготована. И неважно уже, отчего это произошло – то ли по неосторожности, что чаще всего бывает, то ли по неопытности, то ли по прихоти судьбы. Пусть последняя к ним теперь и благоволит, но это вовсе не значит, что допустимо расслабиться, слишком рано поверив в успех задуманного. Поскользнуться можно и на последней ступеньке.
Она не поняла, отчего Тарас после ее слов о байде словно остолбенел, а Ежи, покачав головой, заметил: «Видать, нас обоих и вправду спасет кнеж Дмитрий, суденышко легкое, неуловимое». Но казак тут же нахмурился.
– Почему нет Михримах? – почти в полный голос выкрикнул Тарас.
– Она должна ждать нас снаружи, возле Грозной башни, – уверенно ответила Орыся, но что-то с этой уверенностью было не до конца ясно: может, даже ей самой. Показала на корзинку: – Видишь, ее Хаппа со мной…
– Ну?
– Хвост в кольцо гну! – Девушка мгновенно ощерилась: она все же была по-прежнему та самая младшая близняшка, которая совсем недавно резко отказалась назвать свое имя. – Неясно разве: она без своей собаченьки бежать не согласится! Как я – без своего Пардино.
И торопливо погладила Бея, который вдруг начал проявлять беспокойство: чуял, что хозяйка волнуется не напрасно. Он ощущал это тем своим звериным чутьем, которое не обоняние, но вообще невесть что.

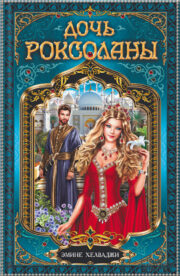
"Дочь Роксоланы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дочь Роксоланы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дочь Роксоланы" друзьям в соцсетях.