Она с изумлением увидела, что он плачет. Не тяжело, не горько. При этом он говорил:
— Он вошел, когда я лечил глаза Хедды. Ей уже лучше, и было бы еще лучше, если бы она не стирала сразу мазь, которую я кладу. Он вошел и смотрел на меня, а я его не узнавал, пока не увидел Рафика. Давным-давно он учил меня владеть саблей. Я тебе не рассказывал? Он глядел на меня, и я назвал его по имени. Он рыдал, как женщина. Но он не обнял меня, не прикоснулся ко мне, пока я не узнал, кто такой Назир. Это была, — сказал он дрогнувшим голосом, — очень мокрая встреча.
Она не могла удержаться от улыбки.
— Он рыдал у тебя на груди?
— А я у него. Мы не спали всю ночь. Мы встали еще до рассвета и вместе совершили первую молитву. — Он глубоко вздохнул, чтобы прийти в себя. — Аспасия, Аспасия, я свободен. Я могу вернуться домой.
Ее сердце сжалось именно так, как она ожидала. Но от того, что она этого ожидала, ей было не легче.
— Мой враг умер, — говорил он. — Его жена, которая меня так ненавидела, овдовев, посвятила себя добрым делам. Первым из которых, раз уж ее муж отправился в рай, было обращение к Главе Правоверных с просьбой простить меня. По своему милосердию он удовлетворил эту просьбу. Все имущество, которое принадлежало мне до изгнания, по-прежнему мое, и мое состояние увеличилось вчетверо: моя жена распоряжалась им очень разумно. Я богат, госпожа моя, и хотя и не принц, но достаточно знатен. Мой сын собирается жениться на внучке принца.
— Я рада за вас обоих, — сказала Аспасия.
Он поднял голову. Или он не заметил странного тона ее слов, или не придал ему значения. Щеки его были влажны, но глаза сияли.
— Назир очарован тобой. Первое, что он сказал мне, нарыдавшись на моей груди, было то, что он не видел более царственной женщины, чем ты.
— И много он их видел?
Исмаил улыбнулся своей неожиданной улыбкой.
— Как много нужно увидеть мальчику? Он влюбился в тебя. Он зашел даже так далеко, что заявил мне, что, если я не женюсь на тебе и не возьму тебя в Кордову, он мне этого никогда не простит.
Она не сумела улыбнуться.
— Значит, все решено?
— Я считал, что мне трудно будет обеспечить вторую жену так, как приличествует ее происхождению и положению, — продолжал он. — Но Сафия убеждает меня через нашего сына, что мои опасения напрасны. Если ты предпочтешь иметь свой собственный дом и собственное хозяйство, — можно и так, препятствий не будет, кроме разве что обиды Назира.
— Конечно, нельзя обидеть Назира.
Он бросил на нее острый взгляд; наконец до него стало доходить, что что-то не так.
— Ты ревнуешь.
— Нет, — сказала она.
Она правда не ревновала. Она была рада, что у него такой прекрасный сын. Она была рада, что его жена сохранила его состояние. Сафия, вероятно, была образцовой женой. Аспасия подумала, что, возможно, была бы рада познакомиться с ней.
Дело было не в том, ревновала она или нет. Дело было в том, что он возвращался домой.
Он встал на колени, держа ее руки в своих.
— Когда ты увидишь Кордову, — сказал он, — ты удивишься, как могла сомневаться. Может быть, Константинополь больше. Может быть, Багдад роскошней. Но Кордова прекрасна. А люди… школа медицины лучшая в мире. Поэтов множество, как птиц, и они так же сладкоголосы. Мудрецы, ученые: все собираются в Кордову, чтобы учить и учиться. Там твое место, — продолжал он. — Такая, как ты, с твоей мудростью — весь город будет у твоих ног.
— Даже если я стану почтенной женой?
— Я никогда не буду просить тебя быть чем-то иным, чем то, что ты есть.
Так, подумала она. Но что она есть?
Она высвободила одну руку, убрала прядь волос с его лба. Он слегка улыбался в бороду. Он не мог удержаться. Все, о чем он мечтал, о чем молился, сбывалось.
Он ни на мгновение не подумал, что мог бы остаться здесь.
Это-то и было больно. Он любил ее, любил от всего сердца. У него и в мыслях не было покинуть ее. Она должна ехать с ним. Она должна стать его женой; она будет любить его открыто там, где в этом нет позора. Она будет жить среди просвещенных людей в просвещенной стране, где на нее будут смотреть с уважением и ценить ее по достоинству.
— Больше не будет обмана, — сказал он. — Никакой любви тайком. Никакого страха за твою честь.
Она медленно покачала головой. Она не знала, что отрицает. Может быть, смущение. Страх. Непреклонным старанием она сделала эту страну своей. Теперь она должна все покинуть и все начать сначала?
— Ты потрясена, — говорил он уверенно. — Конечно. Что со мной? Я такой же бесцеремонный, как Назир. Случилось так много, что трудно понять все сразу; я дол-жен был учесть, ведь у меня были целые сутки, и то я еще не во всем разобрался.
Потрясена, вот именно. В ней был холод смерти. У нее не было сил двигаться, хотя, когда он поднял ее на ноги, она встала без сопротивления. Он поискал взглядом ее плащ, нахмурился, закутал ее в свой. Запах пряностей заставил ее затрепетать. Она не могла успокоиться. Хорошо хотя бы, что нет слез.
Он оставил ее стоять, полез в шкаф за вином и чистой чашей. Он добавит в вино чего-нибудь успокоительного.
Она покачала головой. Она чуть не упала, но все же двинулась прямо к двери — и в дверь, прежде чем он заметил, что она ушла.
Она продолжала идти. Он не пошел за ней. Это ее слегка кольнуло. Может быть, вернулся Назир; или что-то другое задержало его.
Она не пошла во дворец, но отправилась в собор. В это время священники и каноники расходились по своим делам. Лишь один, в боковом приделе, гасил свечи, но не обратил внимания на Аспасию.
Аспасия присела на основание одной из колонн. Наверное, ей следовало бы встать на колени и молиться. Но в ней не было молитвы.
Или вся она была только молитвой.
Кордова. Прекрасная, просвещенная, на весь мир знаменитая своей мудростью Кордова. Она верила, что будет чувствовать себя там так, как говорил Исмаил. Исмаил почти обезумел от радости, но все же оставался Исмаилом: он не был подвержен фантазиям.
Над алтарем была мозаика, изображавшая Христа Вседержителя и Богородицу, сидящих на престолах во всем своем величии. А рядом был образ святого Маврикия в доспехах, воинственного святого воинственной церкви, здесь, у восточной границы. Перед ним стоял коленопреклоненный, но преисполненный гордости король. «Одо, — гласила надпись, — рекс германорум»; и добавлено новыми, более яркими буквами: «Магнус император». Оттон, король германцев, великий император. В один прекрасный день, может быть, надпись снова изменят, когда он станет императором Рима.
Он выглядел не таким, каким она его запомнила. Это был византийский царь, изображенный руками византийского мастера: смуглый, темноглазый, сурово торжественный. Суровостью он напоминал великого Оттона. Его сын и его внук были не такими. Они были более мягкими, более цивилизованными.
Плохо ли это, хотелось спросить у него. Мягкость для короля не достоинство. Но ведь даже Бог, являющий собой абсолютную Справедливость, сочетает ее с Милосердием.
Младший Оттон, ее Оттон, мог бы быть лучшим из них. Несмотря на нежный возраст, в нем была сила и пытливый ум. С самого рождения он понимал не только, что значит быть германцем, но что значит быть римлянином. Он мог бы создать мир заново.
Герберт говорил об этом перед своим отъездом, о том, о чем мечтали мудрецы, за что боролся Карл Великий и что утратили его наследники. Обновление Римской империи. Не просто создание империи варваров на западе. Воссоздание империи Рима.
Что такое Византия, как не одна бесконечная гонка за ее разрушающейся предшественницей на западе? Даже Юстиниан не сумел собрать ее; только отдельные части — они были утрачены, снова завоеваны, и утрачены вновь. Сами римляне стали ничтожны по сравнению с великими предками, просто кучка жалких скандалистов в руинах величайшего из городов.
Сила была здесь, на этой земле. Они все еще были варварами, эти франки, германцы и полуязычники-саксонцы, но они знали, что могут стать чем-то гораздо большим. Они были молоды, сильны и честолюбивы. Если они смогут объединиться, если смогут научиться мирно жить под властью сильного короля, они будут править всем миром.
Если и не всем миром, то большой его частью. Галлия, Германия, Италия, даже Испания, если Господь даст им силу и смелость рисковать. Это была Западная Империя.
Колонна, к которой она прислонилась, была холодной и твердой. Она где-то оставила плащ Исмаила. Только покрывало осталось при ней: по женскому свойству быть скромной в минуту полной растерянности.
Она не так много о себе мнила, чтобы думать, что она единственная, кто мечтает об империи, и что мечта эта погибнет, если она ее предаст. Были и другие, гораздо более сильные люди. Герберт. Архиепископ Адальберон в Реймсе. Феофано, которая дала Оттону законное право на Римскую империю. Едва ли Аспасия незаменима. Даже Генрих, чьего сына она обещала учить, может найти других учителей, не хуже, чем она.
Она трусит, вот в чем дело. Она цепляется за знакомое в ужасе перед новым. Здесь она чужестранка. В Кордове ее, может быть, больше поймут.
Она засмеялась, смех прозвучал резко и неестественно в тишине среди колонн. Так вот ее судьба: быть чужестранкой в чужой стране. Стремиться все дальше на запад, вслед за заходящим солнцем, пока не кончится Земля и перед ней не останется ничего, кроме Великого Океана.
Надо попросить Исмаила отвезти ее к морю. Может, он даже поймет, зачем ей это понадобилось. А если нет, что ж! Она упросит его. Ведь она станет его женой. Ей ли не знать, как жена управляется с мужем.
39
В праздник Петра и Павла, в городе Papa, Генрих Сварливый выразил формальное подчинение императрицам, которых так жестоко оскорбил. Он явился босой, в холщовой рубашке, как кающийся грешник, и стоял перед королевским советом, униженно склонив голову, и голос его звучал так покорно, как только может звучать голос мужчины.

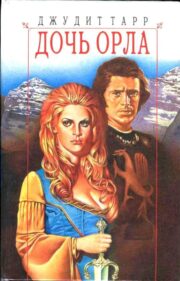
"Дочь орла" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дочь орла". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дочь орла" друзьям в соцсетях.