Он кивнул. Она оставила его несколько озадаченным, но гордым непонятным поручением.
Исмаил вышел вместе с Аспасией; не спрашивая ее позволения, он принял роль ее охранника. По правде говоря, ей и не пришло бы в голову возражать. За десять лет, проведенных вместе, они стали понимать друг друга с полуслова. Он не стал тратить драгоценное время на разговоры.
Она искоса смотрела на него, когда они шли через волнующийся, полный людьми дворец. Это был совсем не тот человек, которого она когда-то увидела в Риме, в папском саду. Теперь борода его серебрилась, и в волосах под тюрбаном прибавилось седины. Складки на лице стали глубже: две длинные резкие по углам рта и одна, покороче, между бровей. Однако он все еще оставался стройным и стремительным, нервным, как его арабские кони.
— Ты думаешь, он попытается что-то предпринять? — спросил он, когда они пересекали пустынный двор.
Несколько скворцов переругивались и дрались из-за чего-то лежавшего на снегу. Аспасия присмотрелась и увидела среди мелькания крыльев и желтых клювов кусок хлеба. Как они были похожи на вельмож во дворце.
— Братец Генрих попробует, — сказала Аспасия. — Сейчас как раз тот случай, которого он ждал, как до него ждал еще его отец.
— Но он же в тюрьме, — заметил Исмаил. — Пять лет он в тюрьме, и это бессрочно. Неужели ты думаешь, что сейчас его выпустят?
Иногда она не могла понять, спорит ли Исмаил просто ради спора или действительно верит в то, что говорит. Аспасия повернулась к нему:
— Кто знает, что сделают его тюремщики? Император умер. Наследник — трехлетний ребенок. Его мать все любят, и каждый, у кого есть глаза, видит, что она, как никто, способна править страной, но можем ли мы быть уверены, что эти германцы назначат регентшей ее?
— На все Божья воля, — сказал Исмаил. — Или ты думаешь, что смерть императора наступила не только по воле Бога?
— Я не думаю, что его отравил братец Генрих, — ответила Аспасия. — Германская ненависть для этого слишком прямолинейна и неуправляема. Нет, это Рим убил моего господина Оттона.
Исмаил, нахмурясь, смотрел на скворцов:
— Если бы я был там, может быть, этого не случилось.
Она удержала готовые сорваться с языка слова.
— Ты врач моей госпожи, — сказала она.
— Да. — Его лицо не смягчилось. — Бог знает лучше. Нашей госпоже придется сейчас быть сильнее, чем когда-либо.
Аспасия кивнула. В горле опять стоял комок. Голос звучал сдавленно:
— Германцы были недовольны, что он тратит все свои силы на Италию, где в прошлом году потерпел такое ужасное поражение.
Исмаил промолчал. Эту победу одержали сарацины, мусульмане из Сицилии и Северной Африки, изгнавшие императора с юга Италии.
— Он старался для Германии, — сказала она. — Он дал им в короли своего сына. Но Италия слишком сильно его занимала. Жаль, что он не мог иметь передышку. Хотя бы на год или полгода. Сейчас это…
— Что есть, то есть. — Он плотнее завернулся в плащ, нахохлившись, как рассерженный орел. — Так мы пойдем туда, куда ты собиралась? Или ты хочешь, чтобы мы совсем замерзли?
— Я собиралась усилить охрану у комнат моего короля, — сказала она, с достоинством трогаясь с места. — И идти служить моей госпоже императрице.
— Императрице-матери, — поправил он.
— Императрице-матери, — повторила она. Заставила себя сказать это во имя истины.
Императрица-мать вышла из часовни так торжественно, как могла в этой стране только она. Ее лицо, мраморно-бледное, было похоже на маску своей неподвижностью. Срочные дела были улажены. Гонцы разосланы, заупокойная месса заказана, люди успокоены. Так это делалось в Византии: быстро, твердо и с достоинством. Империя должна чувствовать, что император у нее есть, даже если маленький и только что вступивший на престол.
Зал был приготовлен для пира, которым собирались отметить возведение на трон нового короля. Слуги начали было все убирать. Феофано остановила их.
— Мы соберемся, — сказала она, — чтобы почтить память нашего покойного господина.
Эти слова, сказанные на германском, прозвучали как приказ в зале, украшенном знаменами и хвойными ветками. Аспасия подумала, заметил ли кто-нибудь, чего стоило Феофано произнести их. Но она должна была их сказать.
— Он умер, — продолжала она. — Подтверждение придет с легатом Святого Отца, но гонец, прибежавший первым, ручался за правдивость вести. И мое сердце знает, что это правда. Давайте сядем за стол, — продолжала она, — и помянем Оттона Германского, императора Рима.
27
Император Оттон покоился вечным сном в гробнице у ворот собора Святого Петра, в далеком Риме. Император-наследник ждал в Аахене, пока государственные мужи назначат ему регента. Они никак не могли договориться. Иногда их споры доносились до детской. Исмаилу пришлось лечить пару разбитых голов, но, к счастью, до настоящего кровопролития дело не дошло.
Половина вельмож стояла за Феофано. Другая половина хотела Генриха, который давно уже не был Баварским, а был заключенным тюрьмы Утрехта за мятеж против короны. Конечно, он был мятежником и изменником, конечно, он заслуживал прозвища Сварливый, но он был отпрыском ближайшего родственника короля.
— Пять лет взаперти в одних и тех же стенах могли бы научить его не делать ошибок, — заметил Исмаил.
Их самих годы кое-чему научили: у них теперь был дом, где они могли быть вместе, если хотели, и где никто не шептался у них за спиной. Он сидел у огня так близко, как только можно, и на его коленях лежала раскрытая книга. Книгу он получил из Багдада, и в ней говорилось о последних достижениях медицины. Аспасия заглядывала через его плечо и находила на каждой новой странице что-то, чего не знала или с чем не могла согласиться.
Она поудобней обхватила его и положила подбородок на его плечо. Он рассеянно провел пальцем по ее щеке.
— Я не верю, — сказала она неожиданно, — что у кого-то хватит глупости отдать Оттона братцу Генриху. Разве только они хотят его самого в короли; так и будет, если он схватит нашего принца своими когтями.
— У германцев есть закон, — сказал он, — согласно которому регентом назначается ближайший взрослый родственник мужского пола и королевской крови. И он может поступать по своему усмотрению. Регентство императрицы — это византийский обычай, чужестранный, которому не следует особенно доверять. Это про нашу госпожу Феофано.
Аспасия куснула его за ухо.
— Кто бы толковал об иноземцах! Может, ты перестанешь рассматривать этот вопрос со всех возможных сторон?
— Не перестану.
Она уселась ему на колени, прямо на книгу. Он принял ее в свои уютные объятия, и в глазах его появился озорной блеск. Она обрадовалась этому, но все равно сказала:
— Феофано — это единственный разумный выбор. Со времени смерти великого Оттона она была императрицей не только по титулу; она знает, что и как нужно делать в его империи. Что может противопоставить этому Генрих? Происхождение, мужской пол и славу изменника.
— Для многих происхождения и пола будет достаточно, а об измене совет может и не вспоминать. Его величество выбрал неудачное время, чтобы умереть: восток, словно сухое дерево, только и дожидается искры, чтобы вспыхнуть, и юг наступает, и Италия беспокойна больше обычного. Империи нужен регент, который поведет армии на войну.
— Есть много военачальников, — возразила Аспасия, — а Феофано знает, как управлять ими.
— Ее величество, к сожалению, женщина, — сказал Исмаил.
Аспасия резко выпрямилась. Он охнул. Она больно ткнула его локтем. Она смотрела на него хмуро:
— Знаешь, что я думаю? Я думаю, что все эти разговоры о женской слабости ничего не стоят. Так, сотрясение воздуха. Мужчины лгут, чтобы потешить свое тщеславие.
— Может быть, ты возьмешь меч и пойдешь воевать?
— Священники тоже не воюют, — отвечала она. — Что в том, что она женщина? Она стоит десятерых таких, как братец Генрих вместе со всем советом.
— Это верно, — согласился он. — Но мужчины тщеславны, как ты говоришь, а у христианских мужчин здравого смысла еще меньше, чем у других. Если бы они просто подчинялись природе, как и задумал Бог, без всех этих нелепых девственниц и мучеников…
Она прервала его поцелуем. Когда она отодвинулась, он скривил гримасу. Она покачала головой, сдерживая улыбку:
— Горе моей душе: я почти поверила тебе.
— Твоя душа была бы в безопасности, если бы ты приняла ислам.
Он говорил без фанатизма, но с полной уверенностью. Она смотрела на его лицо и думала, какое оно темное, с какими резкими и чуждыми чертами, и какое любимое.
— Прошло столько времени, — сказала она, — а ты мне еще не надоел. Ты только подумай, как это странно.
— Очень странно, — согласился он, — и просто невероятно. Говорят, страсть слабеет. Я говорю это молодым женщинам, которые приходят ко мне со своими большими животами и плачут, что мужчины, которые эти животы наполнили, давно безвозвратно исчезли.
— Может быть, ее именно это и убивает, — сказала Аспасия, — дети.
Она сказала это почти небрежно. Эта ее боль была теперь такой далекой, совсем забытой. У нее теперь были дети Феофано, которые требовали любви и заботы. Феофано часто говорила, что этих детей им вполне хватит на двоих.
Аспасия притянула к себе Исмаила с неожиданной силой:
— Я никогда не разлюблю тебя, — сказала она. — Даже когда доживу до ста лет, и у меня выпадут все зубы, и я стану настоящим пугалом. Ты будешь меня любить тогда? Такую старую уродину, какой я стану?
— Едва ли я буду выглядеть лучше, — заметил он, — в свои сто одиннадцать лет. — Он улыбнулся своей редкой белозубой улыбкой. — Я буду любить тебя всю жизнь. А когда мы умрем, если Бог будет милостив, мы проснемся в раю и будем радоваться вместе целую вечность.

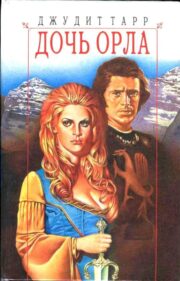
"Дочь орла" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дочь орла". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дочь орла" друзьям в соцсетях.