— Вот, — сказала девочка, сунув ей в руки что-то свернутое. — Ты можешь сразу переодеться. Я знаю тут местечко, где можно спрятать твое платье, пока мы не вернемся.
Аспасия так и сделала. Для нее этот дворец тоже был родным, она здесь родилась и с детства знала каждый уголок. Она сняла придворные одежды и переоделась в простое шерстяное платье с широкой удобной юбкой. Она проделала это молча, показывая всем своим видом, что еще сердится на шалунью.
Но Феофано не испугал бы и гнев самой императрицы:
— Я сказала матери, что у меня болит голова и что мне нужно прилечь. Она очень занята и поверила мне. Наверное, мы можем совсем не ходить на этот пир. Может быть, у меня будет болеть голова очень сильно?
— Будет, если мать узнает, что ты обманула ее, — ответила молодая женщина. К сожалению, не так строго, как следовало. Но ее начинало забавлять все это.
— Моя госпожа-мать, долгих дней ее величеству, будет отмеривать отрезы нашего шелка, какой похуже, до самой ночи. Я ей не завидую, — сказала Феофано кротко. — И зачем мне смотреть на это, если можно пойти с тобой?
Эта дерзость тоже заслуживала выговора, но Аспасия не хотела терять времени. Она сделала строгое лицо и поспешила вперед.
Феофано легко приноровила свой широкий шаг к быстрым мелким шажкам Аспасии. Аспасия была типичной византийкой: миниатюрная, изящная, смуглая, тонкокостная, как птичка. У Феофано были светлые волосы и высокий рост македонянки, а глаза совсем как у матери: большие, карие, с обманчиво мягким выражением. Ее мать-императрица была прекраснейшей женщиной Византии. Византийские царицы всегда славились красотой. Считалось, что этого, как и плодовитости, требуют интересы государства. Но благородного происхождения царице не требовалось. Ее величество, мать Феофано, была дочерью содержателя таверны. Она не стыдилась этого, и никто не считал, что этого обстоятельства следует стыдиться.
Ее дочь обещала стать такой же прекрасной. Впрочем, она унаследовала от матери и ее острый ум, и ее упрямство.
— Почему ты решила, что сможешь уйти без меня? Разве тебе это когда-нибудь удавалось?
— Ну, что ж, я еще попытаюсь, — молодая женщина замедлила шаг. — А вдруг я иду на свидание со своим мужем?
Феофано с трудом удержалась от смеха:
— Днем? И в праздник Брумалия? С Деметрием? Вот если бы братец Иоанн…
Аспасия вспыхнула и рассердилась:
— Ты отлично знаешь, что я терпеть не могу этого надутого павлина. И не могу понять, что вы, глупые гусыни, в нем находите.
— Я его тоже не люблю, — задумчиво сказала Феофано. — Он коротышка, И толстоват. И лысеет со лба. Но согласись, ведь он красивее…
— Мой муж красив настолько, насколько мне надо, — запальчиво перебила ее Аспасия. — И Деметрий почти не лысеет. И у него красивая борода. И он выше многих, даже выше некоторых варягов.
Аспасия умолкла, чтобы перевести дыхание. Феофано засмеялась, подпрыгнула и стала гораздо моложе своих четырнадцати лет. Потом внезапно посерьезнела:
— Я бы хотела, чтобы у меня был такой муж, как Деметрий. Он добрый, душевный и не думает постоянно о своей выгоде. Ему и не нужно быть красивым. Что толку в красоте? Мой отец был красивым, и ничего хорошего из этого не вышло. Он все равно умер, а мать вышла замуж за старика, потому что так надо Империи.
— Не такой уж он и старый, — возразила Аспасия и добавила: — И не кричи так громко.
Феофано возмущенно затрясла головой, но спорить не стала. Даже царевне нельзя вольно говорить об императоре. Особенно если она дочь его предшественника и имеет не меньше прав на престол, чем он сам. Это верный путь к смерти или к заточению в монастыре, что едва ли лучше смерти.
Должно быть, Аспасия рассеянно произнесла это вслух, потому что Феофано ответила:
— Но тебя же не сослали, когда умер мой отец. Бабушку и других теток, но ведь не тебя…
— Это твоя заслуга, моя киска, — повела на нее глазами Аспасия. — Ты подняла такой крик, какого еще не слыхали эти древние стены. И меня оставили. К тому же у меня уже был Деметрий, а он, ты знаешь, двоюродный брат самодержца. Конечно, все это чудо, если вспомнить, кто я и где должна была оказаться. Мой отец был очень добрым. Я была самая младшая, с норовом, я никак не могла согласиться, что если ты царская дочь, то ты не должна выходить замуж, чтобы не появился лишний претендент на престол. Меня выдали за Деметрия, потому что уж он-то никогда не проявлял никаких признаков честолюбия. Все его интересы были связаны с познанием мира, с науками, с книгами. И он так упорно добивался меня! Бог знает, почему ему этого так хотелось, но уж точно не из-за моего происхождения…
Тем временем они уже были у выхода. Феофано на шаг опередила ее. Навалившись всем телом, она толкнула тяжелую дверь и задохнулась от дождя, ударившего ей в лицо. Пригнувшись, они помчались бегом под защиту стоявшего в глубине дома, не обращая внимания на красоту внутреннего дворика и сада, который летом и при солнечном свете вызывал всеобщее восхищение. Сейчас все кругом было сумрачным, серым и заледеневшим.
Их встретило тепло — благодатные волны тепла и ароматы вина и пряностей. Аспасия вздохнула с облегчением. Действительно, в такое время и с таким императором никогда не знаешь, чего ждать. Но все было сделано именно так, как она приказала.
Предмет ее забот уже был там и, судя по всему, был достаточно долго. И выглядел в общем довольным, хотя Лиутпранд не был человеком, которому легко угодить.
Посол германского императора был ломбардцем, но ломбардцы — люди крупные, светлокожие и рыжеватые, а Лиутпранд, потомок древнего рода, был того же типа, что и Аспасия — маленький, смуглый и быстрый, с большим римским носом и бурным итальянским темпераментом. Сейчас он с трудом сдерживал этот свой темперамент. Может быть, виной тому был его непрекращающийся кашель и насморк, который заставил покраснеть его породистый нос. Он сердито сверкнул на них черными глазами, но заговорил вполне любезно, без присущей ему язвительной насмешливости:
— Приветствую вас в вашем собственном дворце, любезные дамы. Я рад, что вы пришли. Надеюсь, просьба принять меня не затруднила вас?
Аспасия позволила служанке взять у нее плащ, подставить кресло, подать чашу подогретого вина. Она взяла чашу в свои узкие ладони, согревающиеся пальцы приятно заныли.
— Никаких затруднений, ваша милость! — в тон ему ответила она, принимая чопорный вид.
Он нахмурился; она сохраняла серьезность, но глаза ее лукаво смеялись, и она добавила вкрадчиво:
— Почему так официально? Разве мы совершили что-то предосудительное?
— Вы, — он особо подчеркнул это слово, — нет. — Он вернулся в свое кресло, взял чашу и громко чихнул. — Бог свидетель, вы всегда были так гостеприимны. Чего я не могу сказать о других в этом отвратительном городе. Вы знаете, я здесь уже полгода. Иссыхаю от жары. Замерзаю от холода. Наверное, Константин сошел с ума, когда выбрал это место, чтобы построить столицу Империи.
— Вероятно, он выбирал его весной, — сказала Феофано. — Весна здесь замечательная.
Ломбардец фыркнул:
— Слава Господу и его Пречистой Матери, я уже не смогу в этом убедиться!
Они уставились на него. Аспасия спросила первой:
— Ты не останешься? Ты уедешь?
— Да, я уеду. — Он оглушительно чихнул. — Черт побери! — (Они не особенно смутились, хотя он и был епископом). — Я уезжаю. Я знаю, что мне незачем оставаться. Я должен был понять это в тот же день, когда прибыл сюда и меня засунули — «разместили» слишком изящное слово! — в дрянной сарай и окружили толпой нахальных слуг, которые только и стремятся обобрать меня. Его милостивое величество вовсе не имеет желания сейчас или когда-нибудь оказать моему посольству должное внимание. Он держит меня как ученую обезьяну для забавы.
— Ну, если подумать, в вашем деле все не так уж плохо, — начала Феофано нерешительно. — Ведь он был очень занят. Эти военные походы, сражения. Надо было собирать армии, оплачивать их, кормить. Не было времени, чтобы думать о мирных вещах.
— Не было времени и не будет! Никифор Фока не намерен дать невесту из своего дома моему принцу!
— Знаешь, — возразила Феофано, — ты тоже должен войти в его положение. Отец твоего принца провозглашает себя единственным властителем над западной частью Римской империи. Если наш император даст твоему императору царевну для его сына, люди могут решить, что он одобряет все, что тот делает. Что он согласен с тем, что германский варвар равен ему самому, одному-единственному самодержцу всей Римской империи.
— Мой император… — Лиутпранд умолк, глубоко вздохнул, закрыл глаза. — Оставим это. Мы обо всем этом и так много спорили. Я устал! Я собираюсь домой! Я хотел сказать вам, что мы отплываем, как только позволит погода.
— Придется ждать весны, — сказала Аспасия.
— Бог этого не допустит, — он заглянул в свою чашу, она оказалась пустой, и он протянул ее слуге наполнить. — И Бог не допустит, чтобы вы поплатились за то, что старались сделать мою жизнь сносной. Я не должен был разрешать это.
Черные глаза Аспасии метнули в него молнию.
— Ты мне разрешил? — произнесла она с царственным величием. — Насколько я помню, это я пригласила тебя, потому что слышала, что ты интересный человек, и мне стало любопытно увидеть тебя.
Он беспомощно улыбнулся:
— Да. И я пришел, потому что уже грыз ногти от бессилия, тщетно добиваясь аудиенции у его величества, и подумал, что смогу получить ее с твоей помощью. А ты честно и без обиняков объяснила мне, почему это безнадежная затея. Я был так поражен твоим умом и твоей прямотой, что тоже стал с тобой откровенен.
— И ты опишешь меня в своей книге? — Аспасия уже улыбалась. — Я в восторге. Ты будешь писать обо мне такие же восхитительные гадости, как о королеве Вилле?

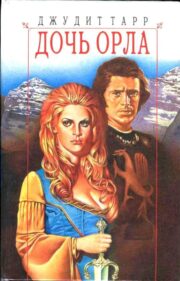
"Дочь орла" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дочь орла". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дочь орла" друзьям в соцсетях.