— Может быть, так и будет, — сказала Аспасия.
Уходя, она оглянулась. Герберт сидел на том же месте с резцом в руке, усердно совершенствуя свой глобус.
9
После знакомства с Гербертом Аспасия видела его почти каждый день то ожидающим папу или императора, то поющим в часовне. Пару раз она встретила его в саду, и они побеседовали на глазах языческого божка, выглядывавшего из кустов. Но мавра она видела только однажды, мельком, быстро удаляющимся. Казалось бы, какое ей дело до дерзкого мусульманина, но он, вопреки всему, тревожил ее мысли. И это было странно.
Она до сих пор иногда просыпалась в слезах, явственно чувствуя себя на сносях и зная, что Деметрий сейчас исчезнет за той дверью. Она знала во сне, что это сон, и все равно пыталась удержать его. Вскоре после встречи в саду ей опять приснился этот сон. Как всегда в этом сне, она безнадежно тянула к нему руки. Он взглянул на нее, но это было чужое лицо. Смуглое, тонкое, горбоносое, с густой черной бородой. Она закричала — от ужаса или от неожиданности, она не знала. Прибежала Феофано и стала успокаивать ее. Прежде Аспасия не любила, когда ее утешают, и быстро брала себя в руки. Сейчас она никак не могла остановить слезы. Она плакала, пока не заснула снова. Благодарение Богу, это был сон без сновидений.
Утром она злилась на себя, как будто была виновата. Феофано ничего не говорила ей, словно о чем-то догадалась. Аспасии больше не снился Деметрий. Но она не могла перестать думать о презренном мусульманине. Она думала о нем с восхищением.
Она пыталась уговорить себя. Разве она не видела арабских врачей в Константинополе? Один из них, Абд аль-Рахим, некоторое время обучал ее арабскому языку и медицине. Он был евнухом, а этот — со всей очевидностью, нет. Вот, собственно, и вся разница!
Со стыдом ей пришлось признаться себе, что разница была, может быть, не в них, а в ней. Абд аль-Рахим был для нее учителем и в общем-то случайным знакомым, и ей никогда не пришло бы в голову интересоваться, что он о ней думает. А этот… он захватил все ее мысли. Она беспрерывно думала о нем. Она хотела видеть его. Она хотела доказать ему, что он не смеет не уважать ее. Он не смеет думать, что она просто какое-то недостойное его внимания существо женского пола. Как одержимая, она вела с ним воображаемые беседы и доказывала ему, что заслуживает уважительного отношения. Чем он так уязвил ее?
Она не спрашивала о нем Герберта. Герберт иногда упоминал о нем, но очень редко. У него было много других тем для разговора. Его занимала, как, впрочем, и всех, предстоящая свадьба. Папа и император, годы учения в Галлии, Испании и Риме, аббатство в Ориньяке, многочисленные друзья, которых он приобретал везде, где ему ни приходилось бывать. У него был просто талант к дружбе. Вот и сейчас он приобрел нового друга — монаха из Реймса. К тому же он оказался логиком, которого давно искал жаждущий знаний Герберт. Этот Жеранн заведовал архиепископской школой при Реймском соборе. В Галлии можно было учиться только при соборах и аббатствах; других учебных заведений не было в этой варварской стране. Жеранн звал Герберта с собой в Реймс, чтобы преподавать математику в обмен на получение знаний по логике.
— Не скажу, чтобы он был особенно сообразителен в науке чисел, но он хочет пополнить свое образование, а я — свое. Когда я увижу, что мой принц женился на своей царевне, я отправлюсь в Реймс. Святой отец отпускает меня, и император разрешил ехать.
Он был так счастлив, что казался красивым. Аспасия была рада за него. Свое огорчение по поводу предстоящей разлуки она скрыла. У нее не было таланта Герберта легко завязывать дружбу. Она была не очень доверчива и откровенна, но если уже с кем-то дружила, то готова была отдать своему другу все. Она могла пересчитать их по пальцам: Феофано. Лиутпранд и теперь — Герберт. Что делать, если у нее не было этого дара! Но когда друзья ее покидали, как это всегда случается, и уходили, кто в Реймс, кто в могилу, она не могла легко с этим смириться.
Надо научиться. Надо научиться смиряться с этим, может быть, тогда она сумеет смириться со своей судьбой: со смертью Деметрия, гибелью ребенка, бесплодием, безнадежностью. У нее ведь есть Феофано, и она будет у нее всегда. Феофано ей это обещала, а она умеет держать слово.
До Пасхи оставалась неделя, но лил беспрерывный дождь. Такая погода была совсем не обычна для римского апреля, и казалось, что зима заблудилась и вернулась не в свое время. Люди держались поближе к жаровням, а те, у кого в доме была такая благодать, как паровое отопление, снова пустили его в ход.
Монастырь, где жили приехавшие женщины, был построен так давно, что в нем было водяное отопление, но монахини им не пользовались. Как-никак это было языческое удобство, и христианкам не пристало ублажать себя языческим комфортом. Гостьям выдали жаровни, но они не могли победить промозглую сырость.
— Прямо как дома, — сказала Аспасия, стуча зубами и пытаясь раздуть затухавшие угли. Хотя по дороге в папский дворец и обратно их прикрывали от дождя балдахином, это помогло мало. От этого косого дождя с порывистым ветром могли защитить только стены. Они вернулись продрогшие и промокшие до костей.
Феофано долго не могла унять дрожь. Служанки сняли с нее насквозь пропитанные водой шелка, переодели в теплое шерстяное платье, распустили влажные волосы. Аспасия, занятая разведением огня, бросала на нее тревожные взгляды. Похоже, ей весь день нездоровилось: она была бледнее обычного и какая-то слишком тихая.
Аспасия не стала спрашивать, не заболела ли она. Конечно, Феофано никогда бы не призналась. Когда угли, наконец, разгорелись и стали распространять тепло, Аспасия придвинула стул поближе к жаровне и заставила Феофано сесть на него. Феофано даже не пыталась возражать. Аспасия положила ладонь на ее лоб. Лоб горел, как в огне, а она вся дрожала.
Даже за то недолгое время, что она провела в Риме, Аспасия поняла, что такое римская лихорадка. Она рождалась в болотах. Римляне или умирали от нее в детстве, или упрямо доживали до старости. Приезжие просто умирали. Германцы мрачно шутили, что, если на них и не свалятся обломки древних римских стен, то уж лихорадка точно свалит с ног.
Аспасия не позволила себе поддаться панике. Свадьба должна была состояться в первое воскресенье после Пасхи. Этот брак значил очень много для обеих сторон, и для Запада, и для Востока. Феофано должна быть здоровой и полной сил в этот день. Она должна подарить своему неопытному юному королю наследников, которые ему так нужны.
Аспасия закутала Феофано в одеяла, Феба уговаривала ее выпить вина с медом. Та капризничала и упрямо отказывалась. Аспасия решительно вышла.
Брат Герберт устроился удобно: комната у него была маленькая, жаровня большая, и было почти тепло. При свете лампы он писал письма для императора. Он не выказал неудовольствия тем, что Аспасия отвлекла его, хотя бывшие в комнате два монаха и писец из папской канцелярии тоже смотрели на нее неприязненно. Она не обращала на них внимания.
— Можешь ты мне срочно найти мавра? — спросила она.
Герберт удивленно поднял брови, но, как она и надеялась, был слишком умен, чтобы задавать лишние вопросы. Он моментально отложил перо, закрыл чернильницу, убрал бумаги со стола. Он спросил ее, когда они уже поспешно шли по коридору:
— Твоя госпожа?
— Лихорадка, — ответила Аспасия.
Герберт ускорил шаг.
Где они разыскали мавра и что было после того, как они его нашли, Аспасия позже никак не могла вспомнить. Казалось, прошла целая вечность, но, когда они шли в монастырь, небо оставалось таким же тусклым и серым.
С сестрой-привратницей чуть не вышла заминка. Она бы, пожалуй, и пустила монаха, но Герберт уже откланялся и поспешил вернуться в свою теплую комнатку к императорским письмам. Но мавр в тюрбане, трясущийся от холода почти так же, как Феофано, поверг сестру-привратницу в полное недоумение. Аспасия развеяла его просто: она остановилась в воротах и придержала створку, пока он не прошел. Она не слышала увещеваний сестры-привратницы.
Мавр молча следовал за Аспасией. Потом она призадумается, приходилось ли ему когда-нибудь бывать в монастыре, тем более в женском. Сейчас она стремилась как можно скорее показать ему Феофано.
Там уже был какой-то врач, по виду смахивавший на мясника. Царевна лежала в постели, ужасающе бледная и слабая. Врач стоял в стороне, в слабо освещенном углу, и бормотал что-то невнятное по-итальянски. Аспасия не понимала, что он здесь делает.
Мавр, стремительно войдя вслед за ней, окинул комнату быстрым взглядом. Он ничего не сказал, но ноздри его раздулись. Он был как конь перед скачками, нервный и быстрый, целиком сосредоточенный на своей цели.
Он выставил итальянца так ловко, что тот даже не понял, как оказался за порогом, и дверь закрылась у него перед носом. Елена вышла с ним. Обычное для нее молчание стало вполне убедительным доводом, и вскоре итальянское бормотание затихло где-то у выхода.
Мавр склонился над Феофано. Мягкость его голоса удивила Аспасию, он говорил по-гречески прекрасно, может быть, немного слишком правильно. Он представился Феофано. Оказывается, он был врачом императора. Аспасия не задумывалась, кто он и кому из владык Рима служит, если вообще служит кому-нибудь. Ей было важно, что он из Кордовы и, значит, дело свое знает.
Через мгновение рука Феофано доверчиво сжимала его руку, глаза смотрели в его глаза, и она верила ему так, как никогда бы не поверила незнакомцу. Его взгляд стал теплым и удивительно добрым. Это был как будто совсем другой человек.
Помощника у него не было. Позже можно будет спросить почему. Аспасия вдруг обнаружила, что подает ему из ящика с лекарствами то, что он приказывает. Казалось, он воспринимал ее только как лишнюю пару рук. Это хорошие руки, подумала она. Хорошо выученные. Они знали, что ему нужно, иногда даже раньше, чем он спрашивал. Он воспринимал это как должное и ни словом, ни взглядом не выражал своего одобрения.

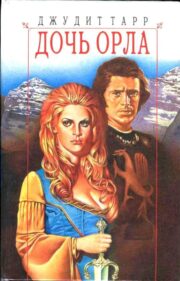
"Дочь орла" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дочь орла". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дочь орла" друзьям в соцсетях.