— Тибо…
— Сколько?
— Тысяча восемьсот марок.
Тибо ничего не ответил.
— Тысяча восемьсот — или его посадят в тюрьму. — И снова: — Тибо…
— Вы готовы были продать себя ради него.
— Нет, Тибо, нет! До вчерашнего вечера я ни о чем не знала. Клянусь!
— Как вы там говорили? Всего один раз? За тысячу восемьсот. Шлюха. Пройдемся до порта и я покажу вам женщин, которые делают это за двадцать!
— Не говорите так!
Эти слова немножко пристыдили Тибо. Помолчав, он спросил:
— Чего вы от меня хотите?
— Я думала, может быть… Я думала, может быть, вы сможете все уладить. Поговорить с кем-нибудь в суде. Может быть…
— Вот, значит, как вы думаете. Вы думаете, что я могу просто взять и нарушить закон. Вы думаете, я могу слегка обойти его, чуточку от него отступить, попросить пару знакомых об одолжении — потому что так ведь оно всегда и бывает. Так оно все устроено. Все мошенники, все воры, все продажны. Все одинаковы, и я такой же, как все. Вот как вы думаете.
Агата молчала.
— Уходите, — сказал Тибо. Он отошел от двери, уселся, откинулся на спинку стула и положил ноги на стол.
В окно дул пахнущий пылью ветерок, лениво шевелил тюлевые занавески. Тибо сидел, совершенно ни о чем не думая, и глядел на купол собора, то появляющийся, то исчезающий в тюлевой белизне. В час дня, когда над куполом поднялся серый голубиный вихрь, а мгновением позже до Ратуши докатился удар колокола, Тибо встал, подошел к окну и взглянул на площадь. Вскоре там показалась Агата: присела на бортик фонтана и развернула газету с бутербродами.
Тибо быстро отвернулся, достал из ящика стола чековую книжку и вышел из кабинета на черную лестницу. Чтобы добраться до кабинета секретаря суда, понадобилось несколько минут: сначала подняться на этаж планового отдела, потом пройти по коридору, который тянется, словно хрящик сквозь отбивную, соединяя разные здания, мимо мансард и пожарных лестниц, пока не упирается в баррикаду из составленных один на другой стульев и батарею банок с зеленой краской в муниципальном здании на другой стороне площади. Тибо открыл последнюю дверь и подошел к кабинету с табличкой «Г. Ангстрем, секретарь суда». Он не стал стучать. Казалось, стучать в дверь вдруг стало немодно.
Господин Ангстрем ел бутерброд с вареным яйцом и читал газету. Кабинет у него был небольшой и имел странную форму, поскольку находился под самой крышей. Окно выходило в темный двор суда, где по стенам, словно стремящиеся к свету лианы, ползли, стараясь обогнать друг друга, водосточные трубы. Когда Тибо распахнул дверь, она ударилась о стол господина Ангстрема.
— О, прошу прощения, — сказал Тибо, и, поскольку господин Ангстрем ничего ему не ответил, продолжил: — Послушайте, у меня есть один приятель, и у него возникла небольшая проблема. Получил штраф. Мне бы хотелось уладить это дело.
Господин Ангстрем проглотил огромный кусок бутерброда с яйцом.
— Имя?
— Стопак. Гектор Стопак.
— С Приканальной улицы?
— Он самый.
— Все будет улажено, господин мэр.
— Штраф — тысяча восемьсот марок.
— Не беспокойтесь, господин мэр.
— Что вы хотите этим сказать?
Ангстрем заговорщически подмигнул.
— Считайте, что все уже улажено.
Тибо хлопнул о стол чековой книжкой — получился звук, похожий на выстрел стартового пистолета — и принялся яростно строчить. Господин Ангстрем беспокойно выпрямился.
— Я выписываю этот чек на счет Городского Совета. Полагаю, он будет обналичен.
Пока господин Ангстрем расписывался в получении, Тибо сердито поглядывал на него через стол. Потом взял расписку и положил ее в бумажник.
— Можете искать себе другую работу, господин Ангстрем!
И Тибо вышел из кабинета, хлопнув дверью.
Во второй половине дня, когда он сидел и смотрел, как вокруг купола собора сгущаются тучи, Агата трижды стучалась в его дверь. Каждый раз он говорил: «Уходите». В последний раз он услышал, что она плачет.
~~~
Тибо сидел неподвижно, положив ноги на стол и обхватив затылок руками, пока его мышцы не окаменели, словно бетон, и думал о том, что он сделал и во что ему это обойдется. Он мог бы купить Агату и распоряжаться ею, как собственник, потребовать от нее чего угодно. Но он любил ее — и платой за это была невозможность ею обладать. Он мог бы не платить штраф за Гектора, мог бы пройтись до Приканальной улицы в дорогом костюме и начищенных ботинках, гладко выбритый и благоухающий одеколоном, и посмотреть, как констебли уводят его в тюрьму. Но это огорчило бы Агату. Поэтому он выбрал худший вариант — расстался с деньгами только ради того, чтобы Гектор Стопак мог любить ее этой ночью, и следующей, и много ночей после. А она будет думать, что он, Тибо, «уладил» это дело, что он такой же, как все, такой же, как Ангстрем. «И все-таки не все одинаковы. Я не такой, как все». Эта мысль была его единственным утешением.
Пока Тибо сидел по одну сторону двери и бормотал себе под нос, по другую сторону сидела Агата с красными от слез глазами. «Дом — это там, куда тебя не могут не впустить». Те самые слова, которые в бабушкиных устах были утешением, обещанием того, что ее никогда не отвергнут, те самые слова, которые звучали для нее приговором, когда она думала об очередной ночи на Александровской улице, теперь звучали угрозой. Дом — это там, куда тебя не могут не впустить. Она не могла не впустить домой Гектора — а ведь именно этого, внезапно поняла она, ей хочется больше всего.
В пять часов Агата все еще сидела за столом. Она была все там же в половине шестого. Когда часы на соборе пробили шесть, она смогла заставить себя надеть плащ, но осталась в кабинете — присела у двери на край столика, рядом с кофейной машиной. Двигаться не хотелось.
— Дом — это там, куда тебя не могут не впустить, — сказала она вслух. — Но это даже не мой дом. Это его дом. И я не могу его не впустить. Я не могу запретить ему приходить домой.
Наконец она вышла из Ратуши и поехала на Приканальную, забравшись на верхнюю площадку трамвая. Дул холодный ветер. Агата сидела, засунув руки в карманы и подняв воротник плаща, и думала, что скажет ему, что сможет сказать, чтобы он не думал о деньгах. И еще она думала о том, что может сделать. Кое-что она могла бы сделать, но после этого он снова спросит о деньгах, а денег нет. Он выйдет из себя, и она будет в этом виновата. Она будет виновата, и он будет в ярости.
Трамвай накренился, поворачивая с набережной. Зазвенел колокольчик. Кондуктор высунулся из задней двери и прокричал: «Зеленый мост!» Впереди, с правой стороны дороги, словно фонари чумного патруля, мерцали огни «Трех корон», мутные, желтые, унылые. Дверь распахнулась, выпустив на улицу бренчание разбитого пианино, и из таверны вышел Гектор. Трамвай медленно проехал мимо. Агата повернула голову и посмотрела, как он укрывает рукой от ветра спичку и закуривает. Вспыхнул отставший кусочек табака, Гектор отбросил его щелчком пальца. Рядом с ним была женщина, тощая женщина с короткой стрижкой и крикливым макияжем. Она запрокинула голову. Агата увидела, как она открывает рот и смеется, а потом присасывается к Гектору в пародии на поцелуй. Трамвай ехал очень медленно. Гектор сунул руку в карман и что-то дал женщине. Деньги. Та снова засмеялась. Агата видела, как они побежали к каменной лестнице, ведущей к проходу под мостом, к арке, под которой было темно и сухо. Трамвай повернул на Литейную.
~~~
Агата сошла с трамвая, чувствуя себя усталой и внезапно постаревшей, и пошла к туннелю, ведущему на Приканальную улицу. Последний фонарь на Литейной улице остался позади, первый фонарь на Приканальной был далеко впереди. Она смотрела на него, входя во мрак туннеля. В солнечные летние дни, когда Агата была счастлива (а она бывала счастлива даже на Приканальной улице), она проходила по туннелю быстрыми шагами, радуясь плеску воды и крокодилово-зеленым брызгам, искорками взлетающим к сводчатому потолку. Но этим вечером тротуар превратился в чернильное пятно, густо текущее в сторону далекой улицы, к бледному огоньку первого фонаря. В туннеле шелестел ветер, вздымал в воздух сухие листья, брошенные газеты, ищущие, где бы тихо умереть, угольные крошки, сбежавшие с барж, кусочки помета, которые Агата предпочитала не замечать, — и вместе со всем этим ветер нес холодное, безвозвратное приглашение воды, причмокивающей за перилами. Агата ускорила шаг.
Когда она вышла на Приканальную улицу, лежащие впереди тени стали только глубже от света фонаря. «Там никого нет. Там никого нет», — сказала себе Агата, но все равно остановилась и прислушалась к затихающему в туннеле эху своих шагов, чтобы удостовериться, что за ней и в самом деле никто не идет, никто не останавливается, когда останавливается она, никто не прислушивается, когда прислушивается она, никто не вглядывается вместе с ней в грязные тени, дыша в такт ее дыханию и не ждет, сдерживая смех, когда она снова пойдет вперед.
— Здесь никого нет, — повторила Агата.
Эхо шло за ней до самого дома № 15, пока она не захлопнула дверь. Стоя в маленькой квадратной прихожей, она снова сказала, на этот раз с ноткой триумфа в голосе:
— Здесь никого нет! Никого!
Но потом ее плечи опустились, из груди вырвался вздох: она вспомнила, что у нее нет денег, чтобы заплатить штраф. И еще она вспомнила о той женщине и о том, что Гектор скоро вернется домой.
Агата открыла шкаф, чтобы повесить плащ. В темноте ее рука наткнулась на полке на какой-то предмет, и, когда он упал на пол, она увидела, что это записная книжка — та, где хранились вырезки с картинками для дома, который они с Тибо строили, обедая в «Золотом ангеле» за средним столиком у окна.
Книжка запылилась, ее страницы высохли и изогнулись, словно лепестки растрепанной розы. Агата с трудом могла поверить, что совсем забыла о ней, что, три года прожив на Приканальной улице, ни разу не съездила в Далмацию.

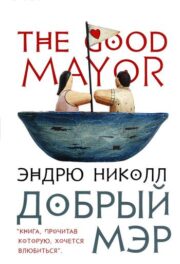
"Добрый мэр" отзывы
Отзывы читателей о книге "Добрый мэр". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Добрый мэр" друзьям в соцсетях.