— А почему не кофе? У вас получается замечательный кофе!
— Это на работе. А для тебя, моей гостьи, я приготовлю чай.
Мама Чезаре открыла гардероб и достала из глубокого выдвижного ящика черный поднос с японскими рисунками, маленький медный чайник на подставке, спиртовую горелку, заварочный чайничек из коричневого фарфора, спичечный коробок, две изящные фарфоровые чашки, одна в другой на стопке дребезжащих блюдец, еще одно блюдце с лимоном, нож и жестяную коробку с откидной крышкой, разрисованной мечами и копьями, среди которых красовался портрет пышнобородого человека в красной рубахе.
Схватив чайник, Мама Чезаре извинилась:
— Один момент! — и шмыгнула прочь из комнаты.
Тут Агате ничего не оставалось, как сделать то, что любой сделал бы на ее месте. Она несколько раз подпрыгнула на кровати, прислушиваясь к ее забавным визгам и всхлипам, немножко посопротивлялась искушению как следует осмотреть комнату и, поскольку жизнь коротка, а время драгоценно, поддалась ему. Конечно, Агата была не из тех, кто стал бы выдвигать ящики и заглядывать в буфет — но между приличными людьми принято негласное правило: то, что выставлено на трюмо, на то и выставлено, чтобы можно было посмотреть.
Зеркало было слегка наклонено в своей деревянной раме к батарее баночек и бутылочек на столике. Среди них не было ничего особенного: обычный набор подарков на Рождество, который ожидаешь увидеть на столике у дамы определенного возраста, фарфоровая розетка со шпильками для волос и старомодными украшениями, и маленькая фотография в серебряной рамке. Взяв ее в руки, Агата почувствовала мягкое прикосновение бархатной ткани, которой она была обтянута с обратной стороны. Агата перевернула рамку. Бархат был красный и вытертый — похоже, фотографию часто держали в руках. Агата представила, как это выглядит: каждое утро и каждый вечер маленькая смуглая женщина садится перед зеркалом, берет фотографию и целует ее. Так это было? Агата снова посмотрела на оборотную сторону рамки и прошлась пальцем по вытертой полосе. Да, именно так, и никак иначе. Священный предмет. Реликвия. Она посмотрела на саму фотографию. На ней был изображен высокий, худощавый молодой мужчина с гладко зачесанными назад черными волосами, с усиками настолько тонкими и такой идеальной формы, что они были, должно быть, плодом пятнадцатиминутной ювелирной работы ножницами — или пятнадцатисекундной работы карандашом для бровей. Щеки — мертвенно-бледные, глаза — угольно-черные. Такие глаза могли быть только у человека, чья родословная уходит вглубь веков и оливковых рощ, за которыми виднеются древние финикийские храмы. Одет он был в плотный костюм, ткань которого с виду казалась пуленепробиваемой, а из кармана жилета свисала цепочка часов. Сквозь цепочку был продет его большой палец — единственная небрежность в облике этого человека, прямого как палка, застывшего, словно мертвец. Вторая его рука лежала на плече миниатюрной женщины, сидящей в кресле, — и впечатление было такое, будто это не столько жест ободрения и поддержки, сколько хватка полицейского, вжимающего ее в это кресло так, что не встать — хочет она того или нет.
— Это мой муж, — сказала Мама Чезаре, закрывая дверь ногой. — Папа Чезаре. День нашей свадьбы. Прямо из мэрии мы отправились к фотографу. Заставили всех ждать. Мы были такие красивые.
Она поставила чайник на подставку, и, прежде чем успела зажечь спиртовую горелку, на поднос выплеснулось немножко воды. Призрачно-синий огонек лениво потанцевал на фитиле, мигнул и разгорелся.
Мама Чезаре уселась на кровать (ноги ее до пола не доставали) и протянула руку, чтобы взять фотографию. Потом жестом пригласила Агату сесть рядом.
— Мой Чезаре. Ах, какой это был мужчина! — Она поцеловала фотографию и подпрыгнула на кровати. Кровать протестующе всхлипнула. — Слышишь, как скрипит? Это мы за двадцать восемь лет замужества довели кровать до такого состояния. — Она подпрыгнула еще несколько раз. — Не подумай, что я жалуюсь. У нас была такая жизнь! Такая жизнь, какая должна быть у тебя. О, то был мужчина! Настоящий мужчина!
Мама Чезаре посмотрела на фотографию долгим взглядом, снова поцеловала ее и обернулась к Агате.
— Я знаю, о чем ты думаешь. Ты смотришь на меня и видишь маленькую высохшую старушку. Что может старушка знать о скрипящих кроватях? Но эта старушка, — она прижала фотографию к груди, — очень даже многое знает о скрипящих кроватях, а самое главное, очень многое знает о любви. Есть любовь и есть постель. Любовь — хорошая штука, а постель — это… это fantastico! Но самое лучшее, — она хлопнула Агату по коленке, — это когда есть и любовь, и постель. Так бывает, когда добрый Господь, поплевав на пальцы, оттирает грязь с окошка, которое забыли протереть ангелы, и говорит: «Посмотрите сюда. Смотрите, что вас ждет. Смотрите, что я для вас приготовил!»
— У меня этого уже очень давно не было, — сказала Агата.
— У меня тоже. Но я помню.
— А я забываю.
— Знаю. Поэтому я так за тебя и беспокоюсь. Если заглянуть в окошко не с тем мужчиной, ничего особо прекрасного не увидишь.
Маленький медный чайник начал закипать. Мама Чезаре спрыгнула с кровати, насыпала в заварочный чайничек чай из расписной жестянки, залила воду, помешала ее и стала ждать, склонившись над чайничком.
— Почему вы заговорили со мной утром? — спросила Агата. — Откуда вы обо мне так много знаете?
— Я — strega, потомственная ведунья. Это не так уж трудно. Когда ты видишь человека, умирающего от голода, ты понимаешь, что он хочет хлеба. Ему не нужно об этом говорить. Ты просто смотришь и видишь. Всякий, кто посмотрит на тебя, поймет, что ты умираешь от голода.
— Но мой муж этого не видит.
Мама Чезаре разлила чай по чашкам.
— Мне кажется, он очень даже хорошо это видит. Мне кажется, он очень голодный человек. Человек, слишком трусливый для того, чтобы поделиться с тобой тем, что имеет. Он так боится умереть от голода, что оставляет тебя голодать в одиночестве. Это очень плохо. Ладно, — Мама Чезаре передала Агате покачивающуюся на блюдце чашку, — пей, пей до самого дна и молчи. Ни слова. Молчи и слушай.
Агата разомкнула сжатые пальцы и взяла чашку. Мама Чезаре уселась рядом на всхлипнувшую кровать. Словно в детстве, когда Агата сидела рядом с бабушкой, в трубе завывал ветер, и начиналась сказка: «Однажды, давным-давно…» Агата отхлебнула чай. Горячо. Ломтик лимона прикоснулся к губам.
— Давно, очень давно, — начала Мама Чезаре, — в моей старой стране была война.
Агата хотела спросить, какая война, но Мама Чезаре неодобрительно шевельнула бровью.
— Я же сказала тебе: молчи. Не имеет значения, какая это была война. Для таких людей, как мы, это никогда не имеет значения. У генералов, королей и президентов бывают разные войны, но для нас, маленьких людей, война всегда одна. Как бы то ни было, надеюсь, ты никогда не узнаешь, что это такое. Итак, давным-давно в моей старой стране была война. Но мы были маленькие люди, жили высоко в горах, далеко. Нас не интересовала их война. Она нас не касалась. Возможно, порой мы слышали, как с далеких холмов разносится гул пушек, а иногда ночью видели отблеск походных костров — но очень, очень далеко. А потом однажды на дороге была перестрелка, а вечером, когда все было кончено, под кустом нашли красного солдата, и на том месте, где у человека должна быть голова, у него не было головы.
Наступила тишина, только чашки едва дребезжали на блюдцах. Помолчав немного, Мама Чезаре продолжила:
— Потом снова наступил покой, пока однажды ночью не начался бой на наших полях. Кричали солдаты, стучали в наши ставни и двери. Лаяли собаки. Мы не открыли двери. Утром, когда все успокоилось, под деревом в саду моего отца сидел синий солдат, и там, где у человека должно быть сердце, сердца у него не было. Мы отогнали свиней, отнесли его на кладбище и похоронили. В тот же день все мужчины сошлись к церкви, чтобы решить, что делать дальше. Один говорил, что нужно держаться подальше от войны, что это не наше дело. Другой говорил, что война уже у нашего порога, в наших садах и стучится по ночам в наши ставни — поздно надеяться отсидеться в стороне. Один говорил, что наша деревня всегда стояла за синих, поэтому молодые мужчины должны идти сражаться на стороне синих. Другой говорил, что синие терпят поражение, а красные побеждают, поэтому мы должны принять красную сторону. И так они спорили весь день. Разгорячились. Я ушла домой варить суп.
Мама Чезаре наклонилась, пытаясь заглянуть в чашку Агаты.
— Допила? Продолжай слушать и молчи.
Агата наклонила чашку, чтобы ей было видно. Немного чая еще оставалось.
— Достань лимон и положи на блюдце. Допей до конца. Так вот, я ушла варить суп. И на следующий день у колодца мне сказали, что Чезаре ушел воевать.
Агата одним глотком допила чай и решительно поставила чашку на блюдце.
— На чью сторону он встал? Синих или красных?
— Допила? — Мама Чезаре внимательно посмотрела в чашку и осталась довольна. — Никто не знал, на чью сторону он встал. Никто не мог решить, кто лучше — красные или синие. Никто не мог решить, кто хуже. Мы ненавидели их всех, но они заставили нас воевать. Если мы будем красными, придут синие и сожгут деревню. Если мы будем синими, придут красные. Поэтому старики сказали, что мы пошлем наших парней в обе армии и скажем обеим сторонам, что мы за них. А наши парни уйдут из деревни и бросят жребий, кому в какую армию идти, но не будут об этом никому говорить, потому что одна армия победит, а другая проиграет, и солдаты обеих армий будут гибнуть, но кто-то все-таки вернется домой, и никто не будет возлагать на них вину за смерть других. Никогда!
— Должно быть, вам было страшно, — сказала Агата.
— Я думала, мое сердце не выдержит. Но хуже всего было то, что я не могла сказать об этом, потому что Чезаре не был моим. Он собирался жениться на моей лучшей подруге.

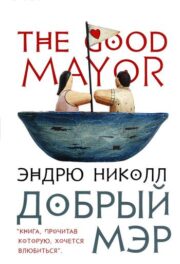
"Добрый мэр" отзывы
Отзывы читателей о книге "Добрый мэр". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Добрый мэр" друзьям в соцсетях.