— Как ты учтив! Надеюсь, что я занята иногда чем-нибудь посерьезнее нарядов, даже в обществе, где, конечно, трудно думать о чем-нибудь серьезном. Сегодня я думала об очень печальном предмете.
— В самом деле? Очень жаль. А я до сих пор считал тебя невозмутимой. Не случилось ли у нас какой неприятности? Не отказался ли Флюмен?
Флюмен был дворецкий, знавший в совершенстве свое дело и помогавший Гаркросам содержать дом на самом аристократическом положении.
— Что за вздор, Губерт! Как будто я способна беспокоиться о таких пустяках.
— Но я не могу представить себе большего несчастия, как расстаться с Флюменом. Что стали бы мы делать, если бы он покинул нас в середине сезона? Часто в начале обеда, когда, по-видимому, ничто не ладится, я говорю себе: не беда, мы в руках Флюмена, как в более важном случае я сказал бы: мы в руках Провидения.
— Когда ты перестанешь говорить вздор, Губерт, я заговорю о серьезном. Не такими ли рассуждениями занимаетесь вы в ваших третейских судах?
— И там говорится немало вздорного, душа моя. Так в чем же состоит твое серьезное дело и почему смотришь ты на меня таким недовольным взглядом?
В лице жены его было что-то такое, чего он никогда не замечал в нем прежде, что-то такое, что заставило его сердце забиться быстрее и напомнило ему один страшный день в его жизни, день, когда Грация Редмайн упала мертвая к его ногам.
— Помнишь ты, Губерт, что я была у тебя однажды в Темпле?
— Конечно, помню. Ты была однажды у меня после полудня по какому-то важному делу. Но в этом нет ничего необычайного. Моя квартира всегда открыта для тебя.
— Я видела у тебя картину, которую ты назвал портретом твоей матери.
— Да, я помню, что ты обратила внимание на портрет моей матери. Так что же?
— И это действительно портрет твоей матери, Губерт? Это не случайное сходство с кем-нибудь другим, с какой-нибудь особой, которую ты любил? Ты не обманываешь меня?
Его смуглое лицо вспыхнуло.
— Это портрет моей матери и в нем нет ни малейшего сходства с кем-нибудь другим.
— В самом деле? В таком случае ты поступил бы благороднее, если бы рассказал о своем происхождении, когда просил моей руки.
Он вскочил с кресла с быстрым движением негодования, но в следующую минуту принял опять спокойную позу, прислонясь к углу камина.
— Я не совсем понимаю ваш способ аргументации, мистрис Гаркрос, — сказал он. — Сделайте одолжение, объяснитесь яснее.
— Мне сегодня подарили гравюру, и эта гравюра — копия с твоей картины.
— Неужели! Я не знал, что есть копия и очень бы желал приобрести хоть одну.
— На обороте написано имя твоей матери, и я слышала ее историю от особы, которая привезла мне гравюру.
— Могу я узнать имя особы, так интересующейся моим семейством?
— Мне не хотелось бы говорить ее имя.
— Я не настаиваю. Мне кажется, что я угадал, кто этот услужливый доносчик.
— В этом поступке не было никакой преднамеренной услуги. Гравюра была привезена мне как редкая и стоящая быть присоединенной к моей коллекции. Особа, которая привезла ее, не имела понятия, что оригинал портрета был чем-нибудь для тебя.
— Невинная особа! Так что же ты узнала из ее неумышленного доноса? Что имя моей матери было Мостин и что она была актриса? Не это ли ужасное открытие смущало тебя весь вечер?
— Да, Губерт. Я была очень поражена этим открытием, но еще более недостатком благородства с твоей стороны.
— Вот, как! Так чего же ты хотела бы от меня? Чтобы я сорвал пластырь со старой раны, никогда вполне не заживающей? Чтобы я поднял занавес с картины, забыть которую было главной задачей всей моей жизни? Разве я хвалился когда-нибудь моим происхождением, мистрис Гаркрос, или старался возвеличить себя в ваших глазах? Прося вашей руки, я предложил вам себя со всей моей будущностью. О прошлом я ничего не говорил и не понимаю, какое вам до него дело и какое право вы имеете призывать меня к ответу за мое происхождение?
— Так это правда? — спросила Августа, бледная до самых губ. — Мистрис Мостин была актриса и твоя мать?
— И то, и другое. Она умерла в Италии, когда мне не было еще пяти лег, но она прожила достаточно, чтобы заставить меня чтить ее память всю мою жизнь. Помни это, Августа, когда говоришь о ней со мной.
— И остальная часть того, что я слышала, вероятно, тоже справедлива. Она окончила свою карьеру побегом?
— Побегом она начала свою карьеру, сколько мне известно, — возразил холодно мистер Гаркрос. — Она бежала с моим отцом.
— И была обвенчана с ним? — спросила мистрис Гаркрос, едва переводя дух.
— Этого вопроса я никогда не был в состоянии решить, — отвечал Гаркрос. — Если он женился на ней, что мне кажется очень вероятным, то он никогда не признал открыто этого брака и… разбил ее сердце.
Последние слова были произнесены медленно и с очевидным усилием. «Он разбил ее сердце», — повторил он про себя, вспомнив, что это не единственное сердце, разбитое таким образом.
— Ты не удостоил сказать мне имя твоего отца, — произнесла Августа после небольшой паузы.
— О, — воскликнул ее муж с внезапным выражением торжества на лице, — так твой доносчик не просветил тебя на этот счет! И я не скажу тебе имя моего отца. Я отказываюсь ответить на вопрос, предложенный так любезно.
— Как угодно, — сказала она ледяным тоном. — Имя не составит большой разницы. Оно не может увеличить или умалить бесчестия.
— Какое тебе дело до моего происхождения? — воскликнул Губерт Гаркрос с увлечением. — Разве я не исполнил условий нашего договора? Разве я воспользовался твоим богатством? Разве я сделался праздным человеком, как поступили бы девять мужей из десяти на моем месте? Ты зовешь меня к ответу за то, что в моей родословной есть пятно! Какое тебе дело, чей я сын, пока я исполняю условие, которое мы заключили между собой три года тому назад? Ты стыдишься моей матери? Но она по сердцу, по уму и во всех отношениях была несравненно выше тебя. Она не переодевалась три раза в день и не жила только для того, чтобы принимать и отдавать визиты. Она могла существовать без французской модистки. В то время, когда я ее помню, она была преданной рабой негодяя, женщиной терпеливой, нежной, выносившей пренебрежение и дурное обращение с ангельским терпением. Улыбка ила случайное ласковое слово от него делала ее счастливой. О, Боже, это была такая жизнь, которая оставила горькие следы даже на душе четырехлетнего ребенка. Моя мать была редкая женщина, мистрис Гаркрос, хотя она и пожертвовала славой и богатством развратному негодяю.
Августа Гаркрос сидела несколько минут молча, едва переводя дух от гнева и страдания.
— Я благодарна тебе за этот неожиданный взрыв откровенности. — сказала она наконец. — Откровенность имеет по крайней мере достоинство новизны, и мне полезно знать твое мнение обо мне. Я несравненно ниже актрисы, я ниже женщины, которая была женой какого-то проблематического лица, а потом любовницей твоего отца, имя которого ты теперь хладнокровно отказываешься сказать мне и еще оскорбляешь меня, когда я выражаю чувство стыда, узнав о твоем происхождении. Если бы ты рассказал мне историю твоей матери, когда делал мне предложение, я, может быть, не посмотрела бы на различие наших положений, я закрыла бы глаза на твое прошлое.
— Иными словами, дочь великого Вилльяма Валлори, мудрого руководителя и друга несостоятельных должников, могла бы добровольно пренебречь недостатком аристократической крови в жилах претендента на ее руку. Если б я ухаживал униженно и показывал, что стыжусь моего происхождения, ты, может быть, простила бы мне, что я потомок дома Станлей или Россель. Не так ли?
В первый раз в жизни Августа позволила себе проявить женственное чувство. Она внезапно встала и направилась к двери соседней комнаты, но на пороге остановилась и обратилась к мужу.
— Я способна простить тебе что бы то ни было, Губерт, кроме того, что ты никогда не любил меня, — сказала она.
Что-то в ее голосе и в ее взгляде тронуло его, несмотря на то, что он был сильно рассержен. Он подошел к двери и остановил жену.
— Никогда не любил тебя, Августа? — повторил он. — Что за вздор! Ты довела меня до бешенства и принимаешь за чистую монету все, что я ни сказал. Я был оскорблен до глубины души твоим презрительным отзывом о моей матери. Она была хорошая женщина, Августа, даю тебе честное слово. Каковы бы ни были ее отношения с моим отцом, но я ручаюсь, что она была невинна. Я не имею возможности узнать когда-нибудь подробно эту историю, как хочешь ты знать больше меня? Не тревожь мертвых. Мое детство и юношество прошли под покровительством одного друга, человека столь же благородного, как отец мой был низок. Полно, Августа, будь благоразумна, — продолжал он, входя опять в свой обычный спокойный тон. — Прости мне, если я сейчас сказал какой-нибудь вздор и не будем больше говорить об этом. Мы в первый раз коснулись этого предмета и пусть это будет в последний.
— Как угодно, — холодно ответила мистрис Гаркрос. — Так как ничто не может уменьшить моего горя и стыда, то я не буду больше надоедать тебе расспросами. Что же касается того, что ты сейчас сказал обо мне, я могу это простить, но забыть не могу.
— Разве я сказал что-нибудь такое ужасное? — спросил мистер Гаркрос с тихим смехом. — Пожалуйста, не принимайте это за чистую монету, Августа. Взбешенный мужчина не помнит, что говорит. Честное слово, я уже забыл, что я сейчас говорил. Я очень любил мою бедную мать, ее милое лицо еще теперь живо в моей памяти, но не такое, каким оно изображено на портрете, а бледное и исхудалое, каким оно было перед смертью. И когда я вспомню, какова могла бы быть ее жизнь, если бы не мой отец, ненависть к нему заглушает во мне все другие чувства. Дай руку, Августа, и забудь все обидное, что я сказал тебе.

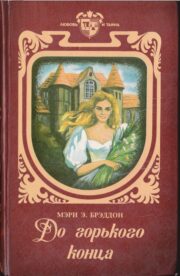
"До горького конца" отзывы
Отзывы читателей о книге "До горького конца". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "До горького конца" друзьям в соцсетях.