Брат Марии встретил их радушно, хотя и с некоторым удивлением. Падре Гидон спросил у сестры:
– Кто эти люди, наша родня?
– Не родня, – простодушно ответила Мария, – это баронесса Лада, моя попутчица. Она потеряла мужа из-за козней вашей инквизиции.
При этих словах приор сделал безумные глаза и приложил ладонь ко рту.
– Она ищет забвения в путешествиях, – продолжала Мария. – А это – ветеран крестовых походов, вояка Робер. Плыл с нами по морю, помогал нам и носил тяжести. Госпожа Лада поживет у нас, сколько ей заблагорассудится. А солдата, мой милый, ты либо отблагодари деньгами, либо дай ему работу. Нехорошо ведь, человек кровь проливал, чтобы ты здесь приход получил. А теперь не знает, как снискать хлеб насущный.
– Хлеб насущный дай нам днесь, – повторил падре Гидон.
– Вот, вот именно это я и говорю.
– Хорошо, дорогая сестра, я все сделаю, как ты скажешь, – покладисто ответил приор. – Главное, что ты добралась жива и здорова. Проходите в дом.
Дом падре Гидона оказался большим и светлым. Раньше он принадлежал какому-то купцу еврею. Последний исчез после взятия Константинополя Святым воинством. Окна одной из комнат выходили на Босфор. Именно эту комнату отвели Ладе. И она первое время проводила в ней целые дни, сидя у окна, выходя оттуда лишь по зову Марии. Робера приор определил работать в церкви по хозяйственной части. Так не самым удачным образом, но все же завершился франкский период жизни нашей героини. И хорошо было бы на этом завершить ее жизнеописание. Ибо сколько же может выпадать несчастий на плечи хрупкой женщины. Но не тут-то было…
Через месяц Лада вдруг поняла, что больше не может видеть Босфор. То есть она сидит, смотрит на пролив, а моря не видит. И что она больше не может находиться в замкнутом пространстве. Она попросила падре Гидона дать ей какое-нибудь занятие. Приор долго морщил лоб, двигал брови, пожимал плечами, и, наконец, спросил:
– У вас есть голос?
– Ты что же сам не видишь, – заметила Мария, присутствующая при этом – она немая, по-твоему?
– Я имею в виду голос певческий, – пояснил приор, – чтобы петь в церковном хоре, участвовать в церковных песнопениях. Спойте что-нибудь.
– Что именно? – спросила Лада.
– Все равно. Что хотите.
Лада спела азербайджанскую песню о пастухе, который встретил девушку на вечерней заре. Песня была длинная, двенадцать куплетов. Приор и его жена выслушали ее до конца, изредка переглядываясь.
– На каком это языке? – спросил приор.
– На азербайджанском.
– Похож на тюркский, – заметил приор.
– Так оно и есть, – согласилась Лада.
– В таком случае, я попрошу вас из предосторожности не петь ее. Здесь не очень жалуют тюрок. Поймите меня правильно, дитя мое. Откуда вам известен этот язык.
– Я долго жила в тех местах, – не вдаваясь в подробности, сказал Лада.
– Насколько я понимаю, голос у вас есть. А спойте, пожалуйста, Аве Марию.
– Я слов не знаю.
– Вы, католичка, и не знаете слов.
– Нет.
Падре Гидон продекламировал:
– Ангел, войдя к Ней, сказал
радуйся, Благодатная! Господь с Тобою,
благословенна. Ты между женами.
Затем напел мелодию и сказал, пойте.
Лада исполнила просьбу.
– Да, у вас есть голос, – сказал приор, – пожалуй, если вы не передумали, можете приступать к службе в церковном хоре. Только помните мою просьбу – по-тюркски не пойте.
Так Лада стала петь в церковном хоре. Это занятие, как ни странно, ей понравилось. Точнее, оно не вызывало у нее внутреннего протеста. Во время общих голосовых единений ей казалось, что она куда-то улетает и парит все то время, что длится песня. В эти минуты она забывала о своих жизненных неудачах. На нее сходило смирение и благодать. Она начинала понимать, как мало нужно человеку, чтобы прийти к согласию с тем, что тебя окружает. Не к гармонии, что вряд ли достижимо, но к осознанному согласию. Собственно, уезжая из Прованса, она имела перед собой цель. Вернуться к тем, кого она считала близкими людьми. – К Али и Егорке. Но ей нужна была передышка, чтобы обрести лицо. Всегда деятельная и жизнерадостная Лада не хотела показываться перед ними в таком расстроенном состоянии духа.
Тем временем, люди, которые так много значили для нее, сидели за скатертью освещаемой керосиновой лампой, принесенной тюремщиком. Керосин в Баку был дешевле масла. Они уже прикончили один кувшинчик вина и собирались совершить путешествие на дно второго, о котором так предусмотрительно позаботился Егорка. К этой метафоре прибегнул Али:
– Удивительное дело, – сказал он, – как только я даю себе слово больше не пить, появляешься ты, и я радуюсь тому, что обещание мое не звучало во всеуслышание.
– Представь себе, что со мной происходит то же самое, – заявил Егорка, – и я тебе даже больше скажу, я вообще не пил, пока тебя не встретил. Так, изредка. Бражки иль медовухи на праздник какой раз в полгода.
– Это была моя вторая фраза, – заметил Али, – и ты сорвал ее у меня с языка. Но вывод здесь следует только один. Нам надо реже встречаться, а то сопьемся к чертовой матери.
– Посылка была верной, – сказал Егор, – но вывод неправильный. Вывод никуда не годится. Об этом уж позволь мне судить. Как только мы объединяем усилия, перед нами ничто не может устоять. Вместе – мы сила. А вино, ну что вино. Это издержки. Но вино – это благо. Оно от Бога. Как говорят христиане, когда причащаются. Пейте кровь Христову, ешьте…
– Дальше не надо, – остановил его Али, – если ты прав насчет объединенных усилий, то почему же мы опять в тюряге. Три шага влево, три вправо и решетка. Обидно, ничего не сделал, только сошел на берег. И главное, мне город понравился. Есть в нем что-то родное. Мне кажется, я бы здесь прижился.
– Тюряга – это временно, – убежденно сказал Егор, – неужели ты думаешь иначе. В наших силах отправиться отсюда в любую сторону. Хоть вправо, хоть влево, хоть вверх, хоть…
Егорку прервал тюремщик, точнее звон ключей на его поясе. Они извещали о его прибытии. Он заглянул, точнее, прижался лбом к решетке, силясь разглядеть, что там происходит в сумраке башни.
– У нас все хорошо, о сын своего отца, – отозвался Егор, – может быть нам понадобиться еще один кувшин. Так что ты пока не ложись спать. Я надеюсь, что винная лавочка в этом благословенном городе работает допоздна. Иначе это было бы неправильно.
Ответ тюремщику не понравился.
– Послушай, урус, – сказал он, – я не люблю, когда мне садятся на шею. Если я достал для тебя вина, это еще не означает, что я теперь у тебя на побегушках.
– Прости моего друга, о страж ворот. Он не хотел задеть твое достоинство, – вмешался в разговор Али. – Просто он не так хорошо владеет нашим языком. Оттого слова его могли показаться тебе лишенными уважения. На самом деле он, как впрочем, и я, будем тебе безмерно благодарны за оказанную доброту. Не скажешь ли ты, о досточтимый страж нашего узилища, почему меня до сих пор не отправили на допрос?
Обидчивый тюремщик, а бакинцы уже тогда были известны своим вздорным характером, на которого слова Али произвели благоприятное впечатление, смягчился и проронил:
– Допроса сегодня не будет. В Баку прибыл Ширваншах. Не до вас сейчас. Вина, кстати, тоже больше не будет. Я ложусь спать. А вы допивайте то, что у вас осталось, и ложитесь спать. Чтобы я ни звука не слышал. Иначе мы поссоримся. Мне бы этого вина хватило на месяц.
Когда бряцанье ключей на его поясе стихло, Али сказал:
– Друг мой, кажется, ты упомянул три направления. Но в движениях влево и вправо мы ограничены. Вверх я вряд ли сейчас полезу. Хотя подумываю об этом. Остается продолжать наше движение в оставшемся направлении – на дно кувшина с вином. Единственное доступное нам и, наверное, самое разумное, хотя и лишающее разума. Что скажешь?
– А вот здесь ты неправ, хафиз, – возразил Егорка, – я даже удивляюсь неожиданной узости твоего мышления. Я не назвал четвертое измерение, потому что меня прервали, а ты его назвать не захотел. Остается еще движение вниз.
– Нет, – категорически сказал Али, – разве я тебе не рассказывал, что я пережил в кяризах. Я не готов это повторить.
– Это ничего, боязнь замкнутого пространства проходит, – заметил Егор, – а вина у нас еще достаточно. Давай выпьем за свободу.
Говоря это, Егор открыл крышку подземного колодца, а уж потом наполнил кружки вином.
– Зачем ты это сделал? – спросил Али.
– Я хочу, чтобы ты привык к виду этого колодца.
– Лучше попроси меня привыкнуть к виду разверстой могилы, результат будет тот же, – возразил Али.
– Между прочим, – заметил Егор, – по кяризам мы с тобой вместе шастали, кажется, ты забыл.
– В самом деле, – согласился Али, – видишь, у меня провалы в памяти начались. Старею. Куда в моем возрасте по подземным ходам шастать, как изящно ты изволил выразиться. Я почему-то очень хорошо помню этот путь, проделанный с Ясмин. А с тобой нет. Из головы вылетело. Прости.
– Чего тут прощать, ясное дело, с девицей-то поприятнее было, – миролюбиво сказал Егорка, – я не в обиде, было бы с чего. Так что, сигаем? Нет? Ладно. Еще выпьем. А все- таки, что у тебя с этой Сарой? Красивая девка, между прочим!
– С этой девкой у меня то, о чем я тебе сказал уже. То есть, ничего.
– Это хорошо, – сказал Егорка.
– Почему, хорошо? – спросил Али.
– Молла, к которому я ее отвел вместе с Машей, так зыркнул на нее. Прямо ошеломился, сразу суетиться стал. Видать, понравилась она ему. Но, если тебе все равно, то и ладно. Только ты мне вот что скажи! Женщины тебя не интересуют, брать новую жену ты не собираешься. Страха смерти у тебя нет. Верно?
– К чему ты клонишь, сократик?
– Нет, ты вначале ответь. Верно?
– Верно, верно, – ответил Али.
– Тогда, скажи мне, почему ты отказываешься лезть в этот колодец. Для чего ты себя так бережешь?

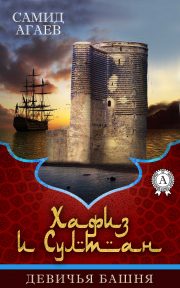
"Девичья башня" отзывы
Отзывы читателей о книге "Девичья башня". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Девичья башня" друзьям в соцсетях.