Пенни Самнер
Дерево ангелов
Моему сыну, Бенету Плаудену
Пролог
1918
Двадцатого декабря, в пятницу, утром, в начале одиннадцатого, в небе над сиднейской гаванью появился ангел.
В последние годы ангелов видели много раз — при Монсе, при Ипре, на Сомме[1]. При Монсе шумное хлопанье мощных крыл заставило остановиться передовые германские части и тем самым спасло Второй британский корпус от неминуемого разгрома. После этого посланцы неба снисходили с утешением к умирающим и раненым и даже показались на британском берегу Ла-Манша, так что молодые женщины на Пиккадилли-Серкес, ненароком заметив, как в витрине универмага «Свон и Эдгар» мелькнуло отражение блистающих крыльев, валились в обморок с мыслью, что их любимые пали на поле боя. В других случаях небесные гости несли радостные вести, и британские матери, которым раньше являлись призраки в образе сестер милосердия, уверяющих, что пропавший без вести сын жив, теперь стали видеть в изножье кровати силуэты с нимбами.
Что же касается южного полушария, то оно не могло похвастаться подобными чудесами, и, видимо, зависть и чувство собственной обойденности подтолкнули журналистов «Брисбенского курьера» и «Мельбурнского времени» к расследованию. Они установили, что источник всех этих «видений» — один рассказец, напечатанный в «Лондонских вечерних известиях». После этого любые сообщения о явлении ангелов объявлялись выдумками и, по выражению суровой передовицы в «Брисбенском курьере», массовой истерией.
Несмотря на скепсис газетчиков, ангел над Сиднеем мог бы наделать много шума, если бы его заметили. Но увы, ни один из сотен потенциальных очевидцев, собравшихся в порту, не поднял глаз к небесам: пассажиры «Марафона» долгие недели мечтали о том, как увидят этот берег, а встречающие на берегу прикрывали глаза ладонями от ослепительных бликов на воде.
Впрочем, острый глаз репортера «Сиднейского утреннего вестника» видел не только судно. Он знал, что его заметка, которой предстояло выйти под заголовком «Домой на Рождество», по соседству со статьями «Лига наций и интересы Австралии» и «Большевистская угроза: Литва взывает о помощи», должна несколькими яркими штрихами дать полную картину происходящего в порту. Прибытие «Марафона» представляло особый интерес: с конца войны это был один из первых кораблей с приличным количеством гражданских на борту, и представитель «Вестника» отметил вздох радостного облегчения, пробежавший по толпе, когда портовый служащий вывесил объявление, что на корабле нет больных гриппом и он не подлежит карантину. Неподалеку от своего места наш репортер увидел два транспаранта. На одном было написано синим: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ, ГЕРОИ!», на другом — красным: «СИДНЕЙСКИЕ ЛЮБИТЕЛИ ТЕАТРА ПРИВЕТСТВУЮТ МИСС АНТОНИЮ РОШ!» Мисс Антония Рош, восходящая лондонская звезда, должна была играть Питера Пэна в главном сиднейском театре. Репортер поговорил с одним восхищенным театралом и по некоторым репликам соседей понял, что все возлагают большие надежды на прием, который их превосходительства генерал-губернатор и леди Хелен Манро Фергюсон дают завтра вечером в честь вернувшихся солдат. Он также перекинулся парой слов со стоявшими рядом, в частности с миссис Хорсфилд, которая, вместе с другими членами Англиканской женской лиги, встречала молодого священника, выпускника Кембриджа, определенного в богатый сиднейский приход.
Все разговоры, однако, стихли, когда буксир повел судно к пристани и зычный мужской голос прокричал из задних рядов толпы: «С австралийским Рождеством!» Вслед за тем, как по команде, грянул стихийный громоподобный хор голосов, молодых и старых, мужских и женских — толпа затянула рождественский гимн. Это было так неожиданно и трогательно, что наш журналист перестал чиркать в своем блокноту и украдкой утер рукавом слезу. Проделывая это, он краем глаза заметил высоко над головой что-то большое, с крыльями, — наверняка пеликан. В других обстоятельствах репортер с удовольствием полюбовался бы птицей, величественно пересекающей знаменитую гавань, но в тот момент пересилил дух товарищества, и он так и не оторвал глаз от корабля.
Так и получилось, что репортаж об этом удивительном событии не попал на следующий день на страницы газет, и ангел просто медленно растаял в вышине, превратившись в одинокое крошечное облачко, плывущее по чистому австралийскому небу.
Часть первая
1910–1918
Перед тем как подняться с постели, я понял, что теперь должен продолжать жизнь в образе ангела и, ведомый самим Господом, возвещать Его второе пришествие. Вместе с тем у меня появилось смутное чувство, что я должен вершить это дело каким-то необыкновенным способом, а именно посредством пения, и эта мысль преследовала меня через все перипетии моего безумия.
Глава первая
Россия, 1910
В кухне пахло розмарином и лаймом.
Под столом сидела Нина. Ей было одиннадцать лет, и ее пробирала дрожь от картинок на картах Таро — женщина с бешеным псом, человек, болтающийся на виселице. Нина была в новых туфлях, и у себя под ногами она видела шпильку и вишневую косточку, которые завалились в щель между кедровыми досками пола. Еще она видела новые кожаные туфли своей сестры Кати и выходные башмаки экономки Дарьи Федоровны — не новые, а очень даже старые и вонявшие углем и воском.
Все утро в кухне стояла суматоха — готовился прием по случаю Катиной помолвки. Свадьбу назначили на следующую весну. Все в доме были на ногах с самого рассвета, но сейчас наступило временное затишье, и Катя уговорила Дарью погадать на картах. Они шептались и смеялись, когда сверху раздался Катин голос:
— А как же Нина? Я, значит, выйду замуж, нарожаю детей и отправлюсь в далекое путешествие, увижу заморские страны — а Нина?..
— Ей тоже суждена дорога, но не такая дальняя, как тебе. Я вижу, что у твоей сестры будет долгая жизнь, не один муж, — тут экономка сплюнула в камин, — и не один дом. — Слюна зашипела в огне, словно живая.
Под шкафом возле стола Нина видела поднос — там кухарка прятала ножи на случай, если ночью в дом вломятся грабители или евреи. Если бы только она могла достать поднос, думала Нина, она бы схватила самый большой нож — с красной рукояткой и широким, как у меча, лезвием — и вонзила бы его Дарье Федоровне в сердце! Не потому, что это Катя, а не сама Нина, должна была отправиться в далекое путешествие, и не потому, что карты говорили о мужьях — в одиннадцать лет не все ли равно, сколько у тебя будет мужей, — а из-за предсказания о доме. Нина всю жизнь провела в своем родовом имении и знала, что ни за что на свете не станет жить ни в каком другом месте.
— А дети? — не унималась Катя. — Сколько детей будет у Нины?
Но тут Нина вылезла из-под стола.
— Не верю я насчет дома! — свирепо заявила она. — И все расскажу маме!
Хотя в ту пору гадания и спиритические сеансы были необычайно популярны в светском обществе Москвы и Петербурга — и даже, поговаривали, при царском дворе, — мама не одобряла этих затей. Но в этот момент вошла прислуга и начала выносить стулья на лужайку.
Была такая приговорка для игры в ладушки: «Невеста в карете, невеста на крылечке, невеста в храме с венцом в волосах». Глядя на праздничный торт, стоящий на буфете, Нина невольно мурлыкала себе под нос эти слова. Чтобы испечь торт, понадобилось целых два дня, а яиц в него пошло больше дюжины; белки и желтки взбивали отдельно, белки — до тех пор, пока они не превратились в хлопья сахарного снега. Затем — изюм, сливы, цукаты, вымоченные в коньяке. Но теперь, когда торт был готов, сильнее всего пахло марципаном, ведь из теста состояла только самая сердцевина торта, покрытая дюймовым слоем марципана и затейливо украшенная миндалем и обсахаренными вишнями. Последний штрих — розовая лента вокруг основания, заказанная по весеннему каталогу «Мейплз» и присланная из Лондона. В той же посылке доставили крашеный шифон для мамы, Катины платья и отрезы синего и белого хлопка для Нининой матроски. Нине тоже хотелось шифоновое платье, но мама сказала, что нужно потерпеть, пока ей исполнится семнадцать. Оставалось еще шесть лет.
Там, где лента на торте была завязана бантом, краснели две сахарные вишенки, точно два глаза, а рядом виднелась еще пара глаз — миндальных. Вишенки были глазами Катиного жениха, Дмитрия Борисовича (у которого в действительности был нос вишневого цвета), а миндаль — глазами Кати. Первые глядели прямо в комнату, а вторые — в сторону, сквозь стену столовой и дальше, через сад, за край долины. Такой взгляд появился у Кати с того утра, когда папа объявил домочадцам о предстоящей помолвке старшей дочери. Дарья с кухаркой тут же стали отмерять засахаренные фрукты, замочили изюм. Аромат горячего коньяка усыпил Нину; проснулась она под звяканье металлических гирь на весах и тихий голос Дарьи:
— Так что не думай, Екатерина, будто таким способом ты сможешь уберечься от интересного положения, как это делают крестьянки. — Экономка злорадно рассмеялась. — Потому-то в церкви отец Сергий и не пускает их поближе к алтарю. Теперь ты знаешь. Свиньи! Вечно норовят изваляться в собственном дерьме.
Катя очень медленно встала — и влепила экономке пощечину. После этого у нее и появился этот взгляд — поверх людей и даже, как порой думала Нина, поверх всей России.
_____
На веранде яркие цветы в горшках начали никнуть от жары, и жена старшего садовника поливала их; там, где она проходила, трава сверкала алмазной росой. Слева от Нины луг перед усадьбой спускался мимо огородов и оранжереи, за которой начинался сад, где росли яблони, груши, вишни. С одного края, позади дома, к саду примыкало Северное поле, а с другого раскинулось Южное поле, которое, идя под гору, в конце концов упиралось в речку. На другом берегу ее, за ивами и пчелиными ульями, начинались настоящие поля.

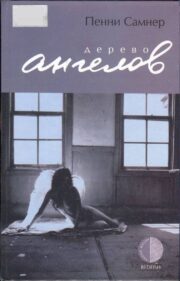
"Дерево ангелов" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дерево ангелов". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дерево ангелов" друзьям в соцсетях.