— Театр — это почти то же самое, что бордель, — часто говаривал он. — И каждый, кто переступает порог этих балаганов, ставит себя на одну доску с цыганами, развращенными блудницами и прочей публикой, удовлетворяющей потребности и вкусы самой низкопробной части общества.
Услышав о моих театральных амбициях, он побагровел и как будто даже раздулся от негодования. Кусок застрял у него в горле, и он принялся кашлять и хрипеть, колотя по столу стиснутыми кулаками. Предвидя поток грубой брани, готовой вот-вот обрушиться на мою голову, я поспешно вскочил из-за стола, ретировался в свою спальню и заперся за замок.
На следующее утро я дождался, пока он уйдет из дому, и только после этого решился спуститься к завтраку. Перекусив, я вышел на улицу, чтобы побродить на свежем воздухе и насладиться солнечной погодой. Стояло божественное утро, и красота Господня творения предстала передо мной во всем своем великолепии. Я словно во сне бродил по усадьбе, наслаждаясь теплыми лучами солнца, которые придавали поэтическую легкость и какую-то прозрачность всему, что было омыто их светом. Могу поклясться, что я не сознавал, куда ведут меня ноги… до того момента, пока не оказался в конюшне наедине с тем самым красивым грумом.
Наши глаза встретились, и я почувствовал, что он зачаровал меня своим долгим, пристальным плотоядным взглядом. Не отводя от меня глаз, он медленно подошел ко мне и, поглаживая меня, как норовистого жеребчика, осторожно повел за руку в одно из лошадиных стойл. Я послушно расстегнул пуговицы, брюки соскользнули с меня на землю. Тогда он резко развернул меня лицом к стене и, толкнув на кучу соломы, сорвал с себя штаны. Он опустился на колени и сразу вошел в мой послушно подставленный зад. Из моей груди помимо моей воли вырвался довольный, хриплый стон, но вдруг я услышал, что мой любовник громко закричал от боли — на его спину со свистом обрушился кнут моего отца.
Я не могу описать ярость, которая охватила отца, когда он нашел меня в таком постыдном положении с одним из собственных конюхов. Мне, вероятно, никогда не удастся загладить в памяти тот стыд и унижение, которые мне пришлось пережить, пока я натягивал на себя штаны под его презрительным взглядом.
Я провел долгую бессонную ночь, а на следующее утро, подавленный и уставший, потерявший всякую надежду и интерес к жизни, предстал перед своим отцом, чтобы выслушать его приговор. Он сидел за своим столом в библиотеке и, видимо, чувствовал ко мне такое омерзение, что даже избегал смотреть на меня во все время нашего разговора.
— Я не верю в тебя и не надеюсь на твое исправление. Ты навлек позор на свое родовое имя, на имя, которое до сих пор произносилось в обществе с уважением и почтением, — холодно сказал он. — И все же, какой бы безнадежной я сам не считал эту затею, мой долг — сделать все, что в моих силах и в моей власти, чтобы ты стал мужчиной. Вся моя жизнь до сих пор протекала в ожидании того дня, когда ты приведешь в дом жену и произведешь на свет наследника родового имени. Ты — мой единственный отпрыск, последний в роде Кеннетов. От тебя зависит очень многое. — Он посмотрел на меня и возвысил голос: — Ты хоть понимаешь, до какой степени я от тебя завишу? Понимаешь, что в твоих руках — продлится ли род Кеннетов в веках, или зачахнет, погребенный сорной травой?
— Да, отец, — пробормотал я.
Он наклонился и достал из ящика письменного стола два конверта.
— Завтра ты отплывешь из Ливерпуля в Америку. Там, неподалеку от Нью-Йорка, у кузена твоей матери есть кусок земли под фермой. Там ты и поселишься и будешь работать на его ферме. Ты останешься там, пока не сможешь доказать, что ты мужчина. Как приедешь в Америку, найди себе какую-нибудь хорошенькую потаскушку и уложи ее к себе в постель. Мне глубоко наплевать, сколько женщин ты употребишь и сколько ублюдков ты наплодишь, — лишь бы ты держался подальше от мужчин. — Он запнулся и быстро взглянул на меня. — Ты меня понял?
Я смог только кивнуть в ответ — судьба американского батрака показалась мне ужасной участью.
— В этом конверте, — продолжил он, протягивая его мне, — письмо к кузену твоей матери, в котором содержится строжайшее указание нагружать тебя работой, чтобы ты был занят с рассвета и до заката. Дисциплина — вот, что тебе нужно. Она удержит тебя от содомского греха. Ферму ты найдешь без труда — адрес написан на конверте. А вот второй конверт, адресованный в Нью-Йоркский банк. В нем содержится указание ежемесячно выплачивать тебе некоторую сумму, которой должно быть вполне достаточно для твоих нужд.
Гнев, душивший его все сильнее по мере того, как он продолжал говорить, стал прорываться наружу.
— Будь наконец мужчиной, сын мой, — заорал он. — И не смей сюда возвращаться, пока не представишь мне доказательства того, что ты действительно мужчина, ты, слюнявый, бесхарактерный, голозадый педераст!
Стоит ли говорить, что, прибыв в Нью-Йорк, я не стал извещать об этом своих родственников по материнской линии…
В то утро я проснулся довольно поздно, но все же не настолько, чтобы опоздать на встречу, назначенную на полдень в Национальном театре. Дара уже встала и, как только я открыл глаза, протянула мне чашку горячего кофе. Она успела заручиться моим согласием на то, что на эту встречу мы пойдем вместе — она не меньше меня прониклась желанием попробовать свои силы в театральной постановке.
Джонатан Ид встретил нас в фойе и провел на сцену. Я познакомил его с Дарой и, запинаясь, попытался объяснить ее присутствие:
— Это мой близкий друг. Она родом из Англии, и ей очень хотелось бы сыграть в вашей труппе.
Когда ей этого хотелось, Дара, как никто другой, умела вызвать в любом мужчине, с которым сводила ее судьба, чувство восхищения и радостного возбуждения. Так что Джонатан быстро смягчился, как только она взялась его очаровывать.
Это был рыжий, веснушчатый человек лет сорока, среднего телосложения, уверенный в себе и последовательный в словах так же, как и в поступках, умевший мягко надавить на всякого, кто осмеливался ему противоречить. В своем элегантном шерстяном сюртуке, шелковом галстуке и светло-коричневом жилете он легко мог сойти за преуспевающего бизнесмена, а не за человека театра.
— Джеймс, — сказал он, приятельски похлопывая меня по спине, — думаю, тебе приятно будет узнать, что я решил подыскать тебе место в нашей труппе. Для двух пьес, которые мы планируем поставить, как раз требуется мужчина с сильным английским акцентом. Где-нибудь на следующей неделе я подготовлю для тебя списки текстов этих пьес.
Я уже открыл было рот, чтобы выразить ему свою признательность, но не успел ничего сказать, потому что он сразу повернулся к Даре.
— Та-ак, а вы что умеете, барышня? Джеймс говорит, что вы родом из Англии, но произношение у вас, если меня не обманывает слух, скорее, американское, чем английское.
Дара улыбнулась, как будто его замечание ей очень польстило.
— Я в этой стране уже давно. Что касается моих умений… я, скажем, могу цитировать Шекспира целый день напролет.
Он встретил ее слова довольно резко.
— В этом я не сомневаюсь. Но вот умеете ли вы играть на сцене? Сможете ли вы быстро и точно выучить свою роль? Если вы намерены стать участницей моей труппы, вы должны быть в состоянии выучить роль в течение одних суток, потому что нам часто приходится ставить по три-четыре пьесы в неделю — и почти без всяких репетиций. Как вы думаете, по силам вам такая задача?
На лице Дары выразилось сомнение.
— Д-да… Да, сэр, думаю, что я справлюсь, — преодолев некоторое колебание, ответила она.
— Вы знаете балладу Гэй «Черноглазая Сюзанна»? — спросил Джонатан.
— Нет, но я уверена, что смогу быстро выучить слова, — с готовностью и уверенностью в голосе ответила Дара.
— Хорошо. Вот вам текст, — сказал он, протягивая ей исписанный от руки листок бумаги. — Мне нужно перекусить, но я вернусь не позже, чем через полчаса. Смотрите, к моему приходу слова должны отлетать у вас от зубов.
Помахав нам рукой на прощание, он вышел через боковую дверь, оставив нас с Дарой в некотором замешательстве.
Наконец Дара прошла в зрительный зал, уселась в одно из зрительских кресел и стала изучать листок, который оставил ей Джонатан Ид, — вид у нее был очень решительный. Она на секунду отвела глаза от бумаги и посмотрела на меня.
— Джеймс, будь так добр, оставь меня одну. Если я хочу в самом деле это выучить, мне нужно как следует сосредоточиться.
Джонатан Ид вернулся минут через двадцать и сразу же размашистым шагом прошел на сцену.
— Поднимайтесь ко мне, — крикнул он Даре, — и оставьте эту бумажку на кресле.
Когда Дара поднялась по ступенькам и подошла к нему, он поставил ее на середину сцены, а сам спустился в зрительный зал и уселся рядом со мной.
— Готово. Ну, приступайте, барышня. И говорите громче, чтобы вас было хорошо слышно даже в самых задних рядах!
Дара нервно откашлялась, произнесла заглавие баллады и начала читать первый куплет.
Джонатан встал со своего места и крикнул:
— Пока все отлично, но все же постарайтесь говорить погромче! Я уверен, что до задних рядов ничего не доходит.
Джонатан Ид всем телом наклонился вперед, внимательно вслушиваясь в ее голос, — на лице его было написано восхищение. Вот, подумал я, девушка, которой врожденное чувство меры, здравый смысл и артистизм безошибочно подсказывают, когда нужно выдержать паузу, а когда можно возвысить голос, чтобы усилить драматический эффект.
Ее умение держаться на сцене и органичное чувство стиха в сочетании с юной красотой производили ошеломляющее впечатление, и даже такой старый циник, как Ид, был потрясен.
Дара была так захвачена стихотворением, что на ее глазах выступили слезы. Джонатан встал и крикнул:
— Вы приняты! — Он двинулся к выходу, но на полдороге остановился и обернулся к нам.

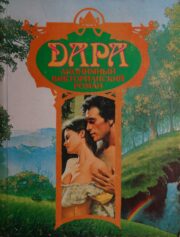
"Дара. Анонимный викторианский роман" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дара. Анонимный викторианский роман". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дара. Анонимный викторианский роман" друзьям в соцсетях.