Я посмотрел на Баффало Быка и на Владимира, сравнивая их между собой.
— Но, Владимир, я уверен, что ты с твоей силой и весом вполне мог бы с ним справиться. Или я не прав?
— Я стараюсь избегать ссор и неприятностей, — медленно ответил он. — Давным-давно в России я убил двух человек, и мне пришлось бежать в Америку. Это никогда больше не должно повториться. У меня есть жена и девять детишек, свое собственное доходное дело… Мне есть что терять в этой стране, если я убью американца, а можете мне поверить на слово, если у меня с Быком Баффало дело дойдет до драки, этим все и кончится. Да, впрочем, я раскусил этого типа. Он задирает только тех, кто его боится. Я за ним давно наблюдаю и сильно сомневаюсь, чтобы он когда-нибудь решился со мной подраться.
Я нагнулся через стол и тихо, чтобы никто меня не услышал, спросил Владимира:
— А как случилось, что ты убил в России двух человек?
— Тут вовсе нет необходимости говорить шепотом, — громко ответил он. — Это никакой не секрет. Я многим об этом рассказывал. Это удерживает их от искушения подраться со мной, а мне только этого и надо. Моя семья жила в деревне, в ста пятидесяти верстах от В. — порта на побережье Черного моря. Тут он прервал свой рассказ, чтобы пояснить, что сто пятьдесят верст равны примерно ста американским милям. — Наша деревня была частью огромного поместья, принадлежавшего одному знатному дворянину, бывшему капитану императорской гвардии. Его превосходительство граф Иван Иванович Горчаков вызывал в своих крестьянах почтение и почти мистический страх. Это был настоящий деспот, по своему усмотрению распоряжавшийся жизнью и смертью своих рабов: они были его собственностью, с которой он мог поступать, как ему заблагорассудится. Каждый, кто жил в его имении, должен был платить подушную подать, получая от него взамен право дышать и быть его «мужиком», или, как вы бы здесь, в Америке, это назвали — рабом. Впрочем, как не назови, суть дела от этого не меняется — все мы значили для него не больше, чем скотина, которая паслась на его заливных лугах. Владимир остановился и поднял на меня тяжелый взгляд. — В этой стране то же самое происходит на юге с черными рабами. И мне стыдно за американцев, которые это терпят. Ты согласен со мной?
Я только кивнул головой и сказал, что я — аболиционист.
— Рад слышать, что ты смотришь на это так же, как и я. В прошлом году мне довелось поприсутствовать на предвыборном собрании, где я услышал, как два кандидата в сенат, Стивен Дуглас и Авраам Линкольн, спорили по вопросу о черном рабстве. Республиканец мне понравился намного больше. Линкольн просто обрушился на институт рабства. А этот… Дуглас все мямлил что-то невразумительное. Ну так вот, что касается моей жизни в России… Мой отец, тоже крепостной, был образованным человеком, вожаком и заводилой «громады» — так назывались сельские сходки. По сравнению с другими крестьянами он был состоятельным человеком, у него были собственные «дрожки», конный экипаж, который он получил по наследству от своего отца. Кроме меня и моей сестры, у моих родителей детей не было. К тому времени, о котором я вам расскажу, мне было четырнадцать лет, а ей — восемнадцать. Она была тихая, скромная и очень красивая — той чистой, стыдливой красотой, какую иногда встречаешь в молодых девушках, только вступающих в возраст расцвета женственности. После того как жена графа умерла от родов, он обратил свою похоть на крепостных «девок» и вскоре прислал своих дворовых, чтобы они забрали мою сестру и еще двух девушек из нашей деревни, которые должны были стать первыми наложницами в его гареме, куда он собирался заключить около дюжины молодых деревенских красавиц. Я никогда не забуду того ужаса, которым наполнились глаза моей сестры, когда ее, грубо схватив за руки, выволакивали из нашего дома. Когда дворовые стали тащить ее к дверям, мы с отцом попытались остановить их. Продолжая драться, мы вышли за ними на улицу, и там они сбили нас с ног своими дубинками. Моя мать была так потрясена потерей единственной дочери, что совсем перестала есть и начала быстро худеть, пока не превратилась в скелет, обтянутый пожелтевшей кожей. Через два месяца она умерла, не выдержав обрушившегося на нее горя. — На глазах Владимира навернулись слезы. Дара перегнулась к нему через стол и предложила ему свой носовой платок. Переполненный нахлынувшими на него горькими воспоминаниями, он тяжело вздохнул, вытер глаза и продолжил свой рассказ. — Примерно через месяц после смерти моей матери сестру привели к его превосходительству отчитываться за совершенный ею грех, за то, что она позволила себе наглость забеременеть. Она должна была пресмыкаться перед негодяем, который ее погубил, ползать у его ног, целовать подол его платья, умоляя его превосходительство простить ей ее «преступление», — и после всего этого ее на десять лет отправили в заснеженную Сибирь. Транспорт был слишком большой роскошью для рабов, и ей вместе с сотнями других крепостных, которые имели несчастье прогневать своих хозяев, пришлось проделать весь долгий путь до Сибири пешком. Чем больше девушек уводили на барский двор, чтобы заменить тех, которые надоели графу или на свое горе забеременели, тем больше недовольных появлялось среди крестьян. Один или два наивных дурака из числа отцов угнанных девушек даже заявились в хозяйскую усадьбу, чтобы возмущенно потребовать вернуть им их дочерей. За такую непочтительность их отвели на конюшню, где сначала кнутом превратили их спины в кровавое месиво, а потом для вразумления посыпали открытые раны солью. Недовольство в деревнях накалилось до такой степени, что мой отец опасался, как бы дело не закончилось бунтом и кровопролитием. Деньгам он не доверял и в течение многих лет, как только у него была такая возможность, покупал как можно больше золотых, серебряных предметов и драгоценных камней. Он выкопал все свои богатства, хранившиеся в тайнике под полом, упрятал их в маленький винный бочонок и отправил меня на дрожках к одному надежному другу, который жил в небольшом городке, в сорока верстах к югу от нашей деревни. Отец строго-настрого приказал мне оставить этот бочонок у его друга и, перед тем, как возвращаться в деревню, не меньше пяти дней пожить у него. — Ясно, что все это он придумал, чтобы уберечь меня от сурового наказания, которое неминуемо должно было пасть на головы всех, кто хоть как-то оказался бы вовлеченным в этот бунт. Отец безошибочно чувствовал настроение людей и замечал все приметы надвигавшегося возмущения. — И вот однажды вечером, через два дня после моего отъезда, все мужики нашей деревни, вооружившись косами, вилами, топорами, дубинками и всем, что еще попалось им под руку, шумной полупьяной толпой собрались перед домом моего отца и потребовали, чтобы он вел их к хозяйской усадьбе — требовать справедливости у его превосходительства. Когда он призывал их подождать, пока он один сходит поговорить с барином, они только переминались с ноги на ногу и угрюмо молчали. Не этого им было нужно — они настаивали на том, чтобы всем вместе двинуться на усадьбу, припугнуть барина и объявить ему, что отныне ему больше не удастся насиловать деревенских девушек и что ни одну из них к нему в дом больше не отпустят. Они подталкивали моего отца перед собой, говоря ему: «Ты наш «гетьман», ты будешь говорить от всех нас». У него не оставалось другого выбора, как только вести их туда, куда они хотели. В угрюмом молчании шли они к барскому дому, держа над головой дымящиеся факелы. Граф увидел, как они приближаются, и с презрительным высокомерием настоящего аристократа стоял на мраморных ступенях парадного крыльца, равнодушно глядя на толпу. Когда все собрались перед домом, мой отец вышел вперед и опустился на колени на нижней ступеньке крыльца.
— Вы уж нас простите, батюшка вы наш, что потревожили мы вас в такое позднее время, — сказал он, обращаясь к графу.
— Чего вам нужно, грязные подонки?! — пронзительно крикнул барин. — На колени все! Кому говорю, на колени, быстро!
Ни секунды не колеблясь, они рухнули на колени, как подрубленные деревья. Граф с презрением и насмешкой посмотрел на них, потом перевел тяжелый взгляд на моего отца.
— Ну, что, тупоголовый недоносок, зачем пришел? Говори за себя.
— Прошу прощения, ваше превосходительство, я говорю не от себя, а от всех громадян. Эти недостойные рабы, которые стоят сейчас перед вами на коленях, уполномочили меня сказать вам, что они больше не станут отпускать своих дочерей в усадьбу на потеху вашей милости.
Когда граф услышал эти слова, его лицо исказилось от злобы, и он обрушил целый поток оскорбительной ругани на своих неблагодарных мужиков, которые только все ниже и ниже склоняли свои лохматые головы, будто стараясь спрятаться от его страшного гнева. Как вихрь, сбежав по ступенькам крыльца, барин со свистом опустил свой кнут на спину моего отца, а потом, ворвавшись в толпу коленопреклоненных рабов, словно стоя посреди овечьего стада, принялся направо и налево раздавать хлесткие удары.
О том, что произошло, я узнал по своем возвращении от отца. Уже по тому, какой мертвой тишиной была окутана деревня, когда я подъезжал к околице, я понял, что случилось что-то страшное. Никто не вышел из избы, чтобы встретить меня.
Тут Дара прервала Владимира, чтобы спросить, что такое «изба».
— Изба, — отрывисто и нетерпеливо ответил он, — это грязная хибара из одной комнаты, которую крепостные называют домом.
— А что такое «батюшка»? — спросила Дара.
— Батюшка — значит отец. А в этом случае с графом имелся в виду отец, наделенный безграничной властью в отношении своих детей-крестьян. Но прежде, чем продолжить, мне бы нужно немного промочить горло пивком, — сказал он и выразительно посмотрел на меня.
Я быстро наполнил его опустевшую кружку, и он, отхлебнув из нее большой глоток, продолжил рассказ:
— Отец рассказал мне, что после того, как крепостные разошлись по своим избам, несколько человек из них, числом около десяти, остались недовольны, что в этот вечер им ничего не удалось добиться — они тайком вернулись к барской усадьбе и своими факелами подпалили дом со всех сторон. Никто не погиб, но усадьба была сожжена дотла. Граф вызвал на помощь войска, и на следующий день после моего приезда прибыли солдаты, которые, окружив деревню, под вооруженной охраной согнали всех мужиков в один огромный хлев и там заперли. Сам граф до тех пор, пока лихорадочно работавшие крестьяне, пригнанные из других деревень, не отстроили его дом заново, переселился в приусадебные постройки. Меня первым вызвали из сарая и поставили перед его превосходительством. Я подполз к нему в пыли, целуя его сапоги и крича, что ни в чем не виноват, потому что во время мятежа меня не было в деревне. — Владимир перевел дух и пояснил: — Я без всякого стыда признаюсь в том, что унижался, чтобы спасти свою шкуру. Я слишком хорошо знал, что кара, вот-вот готовая упасть на головы всех, кто был причастен к бунту, далеко превзойдет степень их вины. Как оказалось, наказание было ужасным даже по российским меркам. — В течение всего этого кошмарного утра людей по одному вытаскивали из хлева. Их пытали и избивали до тех пор, пока они не признавали своей вины или не доносили на своих друзей и соседей. До меня доносились их жуткие крики и стоны, и я возносил к небу безмолвные благодарные молитвы за своего отца, который устроил так, чтобы меня не было в деревне. Полдень еще не наступил, а палачи уже знали имена всех двенадцати мужиков, которые запалили барскую усадьбу. Выведав все, что им было нужно, они, не теряя времени, собрали всех жителей деревни на обнесенный стеной хозяйский двор. Матери с грудными младенцами на руках, дряхлые старики, больные — все были согнаны в одну кучу и толпились, испуганно прижавшись друг к другу, стараясь пробраться поближе к своим близким и родным. Посреди двора росло большое, старое дерево. Его раскидистые ветви палачи использовали, чтобы подвесить к ним за руки тех, кто непосредственно участвовал в поджоге. С них сорвали всю одежду, и они, лишь носками касаясь земли, раскачивались на ветру, дрожа от боли и страха. Их таинственный отец, их всемогущий «батюшка» подошел к ним, держа в одной руке наполовину опустошенную бутылку вина, а в другой — стакан. Он отпил вина и небрежным жестом приказал палачам, которые уже стояли, держа наготове кнуты, выбрать себе жертв. Когда голые тела мужиков начали извиваться и поворачиваться под ударами узловатых кожаных плетей, со свистом рассекавших воздух и глубоко врезавшихся в кровавое мясо, весь двор наполнился кошмарными воплями. Через какое-то время некоторые из них потеряли сознание, не выдержав истязаний, но их тела, исполосованные багровыми рубцами, продолжали безвольно раскачиваться под беспощадными ударами кнутов. Кровь стекала ручьями, постепенно под ними образовывались целые лужи. Граф приказал вылить им на головы ледяной воды, чтобы привести их в чувство. Когда он решил, что они ожили достаточно для того, чтобы вновь как следует чувствовать боль, он приказал палачам сменить кнуты на дубинки и снова подойти к измученным жертвам. Сначала удары были не очень сильны — мучители просто до кровоподтеков били дубинками по тем местам, где кожа еще не была в клочья изорвана кнутами. Тела поджигателей безжизненно обвисли на ветвях, измочаленные страшными пытками. Только слабые, почти беззвучные стоны время от времени срывались с их губ. — Их снова стали поливать из ведер ледяной водой, а граф тем временем прохаживался между ними, потягивая маленькими глотками вино. Он пинал сапогом висевшие перед ним кровоточащие тела и пристально вглядывался в глаза своих жертв, пытаясь понять, осталась ли в них еще хоть искра жизни. Потом он подошел к палачам, что-то тихонько им сказал, и те снова взялись за дубинки, чтобы продолжить свое страшное дело. Очевидно, они получили приказание переломать подвешенным жертвам как можно больше костей. Старательно исполняя приказ, они так размахивали тяжеленными дубинами, что покрылись потом. Женщины, дети и остальные мужчины, которых вывели из сарая и заставили смотреть на это зверское избиение, стояли не в состоянии вымолвить ни слова, потрясенные зрелищем истерзанных мертвых тел, обмякшими, бесформенными тюками висевших на дереве. Только иногда какая-нибудь женщина издавала сдавленный стон, слыша, как хрустят ломаемые кости под ударом дубинки, но и она тут же затихала и молча, оцепенело смотрела на изодранные, окровавленные голые тела, в последнем крике распахнувшие черные дыры запекшихся ртов. Получив наконец полное удовлетворение от наказания, его превосходительство велел остальным подойти поближе и встать перед ним на колени.

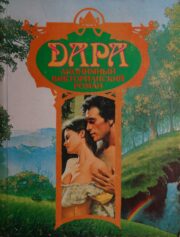
"Дара. Анонимный викторианский роман" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дара. Анонимный викторианский роман". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дара. Анонимный викторианский роман" друзьям в соцсетях.