Пока она устраивалась у меня на груди, я невольно спрашивал себя, кто же она на самом деле — обольстительная колдунья, которая вчера в неверном свете пламени доводила меня до неистовства своими чарами, или вот это безыскусное создание, доверчиво, как ребенок, льнущее ко мне и ждущее невинной ласки и нежного объятия?
Хотя по тому, как уверенно она приняла в себя мой член в первый раз, когда мы слились с ней в страстном порыве на придорожной траве, я понял, что она уже не была девственницей, но никакого любопытства по поводу ее прошлого не испытал — так захватила меня пробужденная ею страсть. Покоренный ее обаянием и красотой, я даже не задумывался об этом, но сейчас спрашивал себя — неужели она и раньше любила кого-нибудь так же самозабвенно, как сегодня она любит меня? Был ли я исключением или ей часто доводилось раскрывать свои объятия и дарить свои прелести всякому мужчине, который завладеет ее фантазией?
Мысленно возвращаясь к первому дню нашего знакомства, я вспомнил, как легко — слишком легко — мне удалось ее завоевать. Она была даже больше, чем просто согласна: отдаваясь мне в первый раз, она руководила мной. Чем больше я думал обо всем этом, тем больше во мне укреплялось подозрение, что любовь тут ни при чем, что в действительности она принадлежит каждому мужчине, который окажется в состоянии удовлетворить жаркий зуд ее страсти.
Дыхание стеснилось у меня в груди, я лежал, уставившись в потолок невидящими глазами и до крови впившись ногтями в собственные ладони. Все нараставшая ярость клокотала во мне, лишая меня способности здраво рассуждать. Обезумевшее воображение рисовало мне картины того, как Дара в самых развратных позах отдается другим мужчинам.
Внезапно я почувствовал, что не могу больше выносить прикосновения ее тела, и грубо оттолкнул ее от себя. Она испуганно взглянула на меня, удивленная и обиженная моим поступком.
— Что это значит, Элмер? — тихо спросила она. — Почему ты так сердито на меня смотришь? Что дурного я сделала?
— С кем ты была до того, как связалась со мной? — угрожающе прорычал я.
Теряя терпение от напряженного молчания, которое было ответом на мою вспышку, я крикнул:
— Давай, выкладывай! Ну же, скажи мне! Я ведь знаю, что я не первый, кого ты пустила к себе между ног!
Кровь бросилась мне в голову, и я стал поливать ее самой грязной бранью, которую мне самому когда-нибудь доводилось слышать. Я знал, что она не может слышать того, что я говорю ей, потому что она лежала, свернувшись клубком, поджав ноги к подбородку и закрыв руками уши, но это только еще больше распаляло меня. Я грубо схватил ее за руки и, оторвав их от ее ушей, стал еще громче выкрикивать ей в лицо еще более грубые и похабные ругательства.
Стоя над ней на коленях, я орал:
— Говори же, грязная потаскуха, кто тебя трахал? Кто?
Она отвернулась от меня, и я заметил, как у нее дрожит нижняя губа. Глотая слезы, она ответила мне тихим, безжизненным голосом:
— Прости меня, Элмер. Я бы очень хотела сохранить для тебя свою девственность, но откуда мне было знать, что я тебя когда-нибудь повстречаю? — У нее снова перехватило дыхание от слез. — Пожалуйста, не переставай меня из-за этого любить. Я не могу жить без тебя.
— Кто это был, — орал я, — он ведь тебя часто трахал, да?!
— Это был фермер, у которого я работала дояркой, когда мне было пятнадцать лет.
— Он тебя изнасиловал? — потребовал я ответа, — или ты сама задрала для него юбки?
— Я сама дважды задирала для него юбки, — устало сказала она, садясь на кровати.
— Так ты, значит, просто шлюха, так получается? — допрашивал я ее, схватив за плечи и дергая ее взад-вперед так, что ее голова моталась из стороны в сторону.
Когда я перестал ее трясти, она посмотрела на меня невидящими глазами и прошептала:
— Если тебе хочется, чтобы это было так, — да.
— Был ведь и еще кто-то? — спросил я. Она отрицательно покачала головой, но я вылез из кровати и, натягивая брюки, холодно сказал: — Я тебе не верю. Ты лжешь, черт тебя дери. Я уверен, их было намного больше, чем ты говоришь. Это же очевидно. Иначе — где бы ты научилась так умело обращаться с мужчинами? — Я окончательно оделся и, прежде, чем захлопнуть за собой дверь, обернулся и сказал: — Отправляйся к своему фермеру, грязная шлюха.
Зайдя на свою квартиру, я захватил там образцы мыла и отправился навестить нескольких клиентов, с которыми у меня были назначены встречи. Мой мозг, казалось, умер, только голос механически отвечал на вопросы, с которыми, делая заказы, обращались ко мне покупатели. На следующее утро, проведя бессонную ночь, я отправился в район Милуоки, где мне предстояло встретиться с несколькими постоянными заказчиками.
Казалось, в моем мозгу остался только один маленький живой участок — тот, который должен был отвечать за то, чтобы несколько мелких магазинов, расположенных в этих краях, закупили у меня мыло. Больше я ничего не чувствовал и ничего вокруг себя не замечал. Моя речь, мои поступки, мои реакции — все это протекало автоматически, независимо от моего разума. Но сознание здорового человека не может находиться в бездействии слишком долго, и после того, как я вышел от своего последнего клиента, на меня вновь нахлынули все мои мысли и чувства.
Впрочем, сначала это были только чувства — рассуждать спокойно я был еще не в силах. Ревность разрывала мое сердце, я, наверное, был похож на лунатика или буйно помешанного, когда яростно шагал по пустынной дороге, бежавшей через луга. К счастью, деревья и кусты остались единственными, кто видел мое искаженное мукой лицо, кто слышал мои стоны и скрежет стиснутых зубов. Противоречивые и мучительные чувства по очереди жгли меня изнутри: неистовые припадки ослепляющей ревности и злобы постепенно сменились слезливым унынием и жалостью к самому себе, а потом, когда мне на память стали приходить все те похабные и страшные слова, которые я обрушил на бедную Дару, — глубокий стыд вытеснил все остальные чувства.
Наконец, разум — величайший дар Господа человеку — усмирил бушевавший во мне вихрь страстей, принеся терпимость и здравый смысл в мою измученную голову.
Какое право имел я, женатый мужчина, отец двоих детей, приложивший все старания, чтобы переспать с красивой молодой девушкой, осуждать эту самую девушку за неосторожность, которую она проявила, по меньшей мере, за два года до того, как мы с ней познакомились?
Единственным оправданием моей жалкой ревности могло служить лишь то, что я впервые в своей жизни был влюблен и поэтому хотел полного, безраздельного обладания предметом своей любви и не желал ни с кем ее делить ни в настоящем, ни в прошлом, ни в будущем. Ревность, эта темная, разрушительная сторона любви, взорвалась во мне, распавшись на тысячу отравленных мыслей, чтобы погубить во мне нежность к девушке, которую я люблю.
Даже ее пылкое желание доставить мне радость мое отравленное безумием воображение превратило в подозрительные проявления хищной женской похоти.
Влекомый чувством вины, раскаяния и стыда, я отправился в Чикаго. Мне не терпелось поскорее добраться до Дары и попытаться искупить свое жестокое поведение.
К тому времени, как я приехал в Чикаго, солнце уже клонилось к горизонту, и к дому, где Дара снимала комнату, я подошел, когда на город опустились тихие сумерки. Она называла этот дом «нашим», но теперь я остановился, сомневаясь, не потерял ли я право на то, чтобы свободно входить в этот дом, видеть Дару, находиться в этой чудесной комнате. Конечно, после того как я унизил Дару самой непристойной и гнусной бранью, после того как я оскорбил ее отвратительными обвинениями, на которые не имел никакого права, и в довершение всего — оставил ее наедине с ее горем на два дня и две ночи, было бы верхом самоуверенности надеяться, что меня встретят с распростертыми объятиями. Все же желание помириться с Дарой пересилило сомнения, и я, стараясь не шуметь, поднялся по лестнице и робко постучал в дверь. В ответ не раздалось ни звука. Только после того как я постучал еще раз и мне снова никто не ответил, я решился открыть дверь и войти в полутемную комнату.
Внутри стояла пугающая, мертвая тишина, я уже хотел уйти, думая, что Дары нет дома, как вдруг мне показалось, что в одном из кресел кто-то тихонько пошевелился. Пристально вглядываясь в темноту, залегшую вдоль стен, я разглядел маленькую фигурку, сиротливо свернувшуюся в кресле.
Я поднес спичку к каминной свече, и ее колеблющийся, неверный свет выхватил из темноты картину, при виде которой мое сердце чуть не разорвалось от жалости. Эта картина еще долго стояла у меня перед глазами и терзала мою совесть. Измученное лицо Дары было покрыто полосками высохших слез. Глаза, потемневшие от отчаяния, безучастно посмотрели на меня и снова закрылись от невыносимой усталости. Оглядев комнату, я увидел, что смятое постельное белье и все остальные предметы в ней лежат так же, как лежали, когда я уходил. Потом мне пришлось узнать, что, когда я ушел, она перебралась с кровати в кресло и так и сидела там, в полутемной комнате за задернутыми занавесками, все то время, пока меня с ней не было.
Когда я осознал, что я — причина всего этого горя, от отвращения к себе у меня из желудка горькой струйкой поднялась желчь. Но времени на то, чтобы предаваться стыду и самобичеванию, не было. Я постарался думать только о том, как все исправить. Первым делом я разжег огонь в камине, чтобы согреть комнату, надеясь, что это немного оживит одинокую фигурку в кресле. Потом решил приготовить чего-нибудь горячего.
Я поискал в буфете, но там не было ничего подходящего, кроме трех яиц, которые я и положил в кастрюлю с водой и поставил на огонь. Тут мне пришла в голову мысль, что, возможно, чтобы оживить ее, нужна не только еда — я сбегал в ближайшую таверну «Собачья голова» и вернулся с бутылкой бренди. Я снял сварившиеся вкрутую яйца с огня и, достав из ящика буфета ложку, попытался влить между губ Дары немного живительной влаги. В горло прошла только половина напитка — остальное пролилось ей на подбородок и на блузку. Но даже то немногое, что она проглотила, вскоре возымело действие. На ее щеки вернулся румянец, и через некоторое время она открыла глаза. Она, как слепая, провела пальцами по моему лицу, как будто хотела удостовериться, что глаза ее не обманывают.

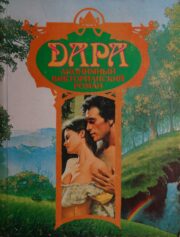
"Дара. Анонимный викторианский роман" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дара. Анонимный викторианский роман". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дара. Анонимный викторианский роман" друзьям в соцсетях.