Книга — красивое иллюстрированное издание обо всей Канаде — нашлась достаточно быстро: в книжном отделе выбор был огромным, а вот с подарком для Андрея пришлось повозиться подольше.
Уговор между Львом и Андрейкой был простым: привезти то, что поразит Льва, но не с первого раза, а со второго. Забавный мальчишка, всегда что-нибудь да придумает! Справедливо решив, что железная дорога была первым поразительным открытием, Лев направился вдоль прилавков, оценивающе разглядывая всё то, что на них лежало.
Сумка росла и раздувалась, толстея с каждой минутой: кроссовки для ребят, модный плащ для Маришки, шикарная мягкая шерсть для тёти Симы, бинокль для Генки, смешное зеркало для Светочки и сомбреро для Серёги Тищенко — куплено было всё, за исключением подарка для Андрейки. Вещи, лежащие в необъёмных пакетах, были качественными, красивыми и порой забавными, но ничего, что поразило бы его так же, как железная дорога, на пути Вороновского не встретилось. Он уже отчаялся и, посматривая на огромные настенные часы с длинными фигурными стрелками, решил, что купит первое, что попадётся ему под руку, как глаз его остановился на необыкновенной вещи.
В отделе музыкальных инструментов висел предмет странной формы: к плоскому приплюснутому барабану был пристроен несуразно длинный гитарный гриф с колками. На передней панели была проделана узкая овальная щель, и туго натянутые струны отдавались странным приглушённым металлическим звуком редкого тембра. Если бы с этого сооружения можно было бы свинтить гриф со струнами, то остался бы точно такой же барабан, который Вороновский помнил по детству. Он лежал на полке в шкафу пионерской комнаты школы, вызывая восхищённые и слегка завистливые взгляды мальчишек. По бокам его шли круглые вертикальные палочки, служившие креплением основе и поблёскивающие на солнышке жёлтым металлическим блеском. Точно такие же золотистые палочки были и здесь, и это ощущение знакомой с раннего детства вещи было до того сильным, что Вороновский невольно засмеялся.
— Интересно, что это за балалайка такая мудрёная, — вслух проговорил он.
— Сами вы балалайка, гражданин хороший! — с укором отозвался на его слова продавец. — Что ж это вы, с виду такой респектабельный, а балалайку от банджо отличить не смогли? — В его словах зазвучала обида. — Весь мир знает, что это такое, а как наши увидят его, так обязательно каким-нибудь непотребным именем назовут: то балалайкой, то барабаном на верёвочке, а один турист сказал, что я ему скрипку бракованную подсунуть хочу. Чего только не напридумывают, такой ерунды!
— А вы что, русский? — удивился Вороновский.
— Все мы в какой-то степени русские, кто-то больше, кто-то меньше, — протяжно отозвался тот, — здесь половина Канады с иорданским профилем и хохляцким акцентом ходит, так ведь все люди — братья, это ещё дедушка Ленин говорил, разве не так?
— Так, — хмыкнул Лев, — просто неожиданно услышать здесь русскую речь, всё по-французски да по-английски.
— Может, конечно, и так, это смотря куда ходить. Если в университеты да музеи — тогда да, а если на развалы и толкучки — так тут все наши. Ну, банджо-то будете брать? Самая что ни на есть Канада будет, зашибись, а не подарок!
— Говорите, Канада? — Вороновский ещё раз оценивающе взглянул на мудрёную гитару.
— Канадский фольклор в чистом виде, — утвердительно кивнул головой продавец и выжидающе уставился на Льва.
— Ну, если фольклор, тогда заверните, — согласился Лев. Время поджимало, а хотелось ещё успеть подняться на лифте и посмотреть на всю эту красоту сверху.
Обвешавшись кульками, пакетами, сумками и сумочками, Вороновский напоминал сам себе хорошую ломовую лошадь, телега которой загружена под завязку.
— Ещё один свёрточек, и я умру, — тихо проговорил он, направляясь к лифту. Если бы от него зависело, то он привёз бы с собой только фотографии и книгу, но ребята ждали подарков, и с этим приходилось считаться. Чувствуя себя немного не в своей тарелке, Вороновский обернулся, но, оглядевшись по сторонам, понял, что он такой здесь не один. Народ, увешанный покупками с головы до пяток, дефилировал в совершенно произвольном направлении и нисколько по этому поводу не комплексовал. Вздохнув свободнее, Лев встал у лифта и начал ждать.
В огромные, от пола до потолочных перекрытий, окна универмага светило прохладное канадское майское солнышко, но здесь, внутри, оно казалось тёплым и ласковым. Проходя через стекла, лучи не «ломались», а падали прямыми упругими полосочками, похожими на туго натянутые гитарные струны. Казалось, что можно взять и уцепиться пальцем за эту струну, и от неё посыплются мелкие золотистые искорки. Сверху плавно спускалась кабина лифта, а в лучиках солнца танцевали зажигательную румбу тысячи мелких пылинок.
Вороновский поднял голову и увидел пол кабины, медленно опускающийся книзу. На платформе стояла какая-то женщина, но лица её пока не было видно. Яркие потоки солнечных лучей беспрепятственно проникали сквозь тонкую ткань лёгкого платья. Точёные длинные ноги, покатая линия упругих бёдер, узкая талия и безупречная форма груди. Лифт ещё не опустился до конца, но в ушах Вороновского наступила гулкая томительная тишина. Кругом пропали все звуки, кроме глухих ударов сердца, отдававшихся пульсирующей болью в каждом уголке его тела.
Этого не может быть, потому что это однажды уже случилось с ним, там, в прежней жизни, много лет назад. Он вспомнил, как в свете солнечных лучей любовался этой женщиной, замирая от щемящей боли и моля Бога продлить это удовольствие. Запах её волос цвета переспелой пшеницы, пахнущих грозой; хрупкие податливые плечи, тонкие пальцы рук и глаза цвета морской волны. Господи, как давно это было!
Лифт опускался всё ниже, а глаза Льва поднимались всё выше, охватывая её стройную фигуру целиком. Здравый смысл советовал Вороновскому развернуться и отойти хотя бы на пару шагов, пока ещё не стало слишком поздно. Затеряться в этом людском потоке, смешаться с толпой, и — всё пройдёт стороной, всё будет, как прежде. Но ноги его намертво приросли к полу, и разум перестал повиноваться.
Эта женщина пронеслась по его жизни, сжигая всё на пути ненавистью, разрушая, разбивая и топча ногами то, что было ему дорого, но разуму было не под силу победить что-то горячее и дикое, ворвавшееся в кровь и душу Вороновского за несколько секунд и скрутившее его волю в один тугой узел. Он хотел испытать эту сладкую боль хотя бы ещё раз, вдохнуть запах её волос, ощутить её тёплое дыхание на своей груди. Это чувство было сильнее его, сильнее всего, что его окружало, сильнее долга, чести, времени. Когда-то он желал эту женщину до отчаяния, до крика, до безумия, и вот теперь, словно и не было этих десяти лет, время повернуло вспять, и всё начиналось заново.
— Тьфу ты! — Маришка неловко повернула намыленную чашку, и она, выскользнув из рук, ударилась о кран мойки и раскололась на мелкие кусочки. — Что за день такой, всё из рук валится, — пожаловалась она вслух неизвестно кому. Говорят, что разбить чашку — к счастью, но, вопреки сложившемуся стереотипу, в разбитой посуде Маришка, как ни старалась, ничего симпатичного углядеть не могла.
В доме она была совершенно одна: Лёвушка ещё не вернулся из канадской командировки; мальчишки, по причине хорошей погоды и первого дня летних каникул, играли во дворе в футбол.
— Даже не на кого свалить! — иронично заметила она, закрывая воду и стараясь вытащить осколки так, чтобы не порезать руки.
Несмотря на ироничный тон, настроение у неё было никудышным, ну просто отвратительным. Неизвестно почему, последние несколько дней в голову лезла всякая ерунда. Если бы что-то конкретное случилось, тогда ещё понятно, так ведь нет, ничего такого, что могло бы встревожить её, не произошло, даже намёка не было на какие-нибудь неприятности, а под ложечкой щемило, доводя до состояния, близкого к обмороку. Два дня назад она даже решила в профилактических целях принимать на ночь небольшую дозу корвалола, но то ли доза была рассчитана неверно, то ли двух дней было недостаточно, только корвалол оказался для Маришки, как мёртвому припарка, абсолютно бесполезным.
Почему она психовала, оставалось загадкой. Лёвушка ежедневно отзванивался на сотовый, судя по его словам, там всё было в порядке, о своих медицинских семинарах он вообще говорил взахлёб и с придыханием. Мальчишки окончили год прилично, без троек, пополам четвёрок и пятёрок, и оба безо всяких видимых затруднений были переведены в следующий класс. Родители тоже звонили не так давно, они разобрали старый сарай и наняли рабочих ставить новый. Мать сказала, что у них всё слава Богу — огород засадили полностью, отцу прибавили пенсию. Тогда что? Если бы знать, что, — так, может, и нервничать бы не пришлось.
Маришка не могла сказать, что она больна, нет, здоровье было в норме, но постоянное ощущение тревоги и беспокойства не покидало её ни на минуту. Чувство страха появилось у неё в тот день, когда она провожала Льва в аэропорту, да так и не ушло. Чаще, чем обычно, она поглядывала в окно, обводя привычную картинку двора беспокойным взглядом; от каждого телефонного звонка вздрагивала, ожидая плохого известия; дошло до того, что она стала бояться собственного дома.
Придя к выводу, что так недолго и с ума сойти, она отодвинула подальше бесполезный корвалол и приняла решение отправиться к врачу. Правда, кто отвечает за подобные проблемы, она точно не знала: то ли психотерапевт, то ли невропатолог, а может, и вовсе психиатр. Как известно, благими намерениями дорога в ад вымощена, и поскольку врач был далеко в поликлинике, а соседка рядом, за стеной, начать своё лечение Маришка решила с неё. С умными людьми и посоветоваться не грех.
— Понимаешь, всё мне что-то чудится, — объясняла она, заваривая пакетик чая в большом бокале с красивой картинкой лотоса на боку. — Проснусь ночью, лежу, как сова, глазами хлопаю, а сна — ни в одном глазу нет. Что бы это могло быть, как думаешь, Вет?

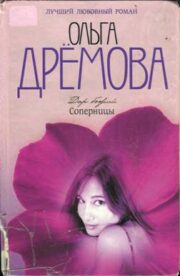
"Дар божий. Соперницы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дар божий. Соперницы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дар божий. Соперницы" друзьям в соцсетях.