Однажды утром во вторник в середине июня, когда обильное весеннее цветение, охватившее долину, сменилось насыщенной зеленью лета, раздался звонок, которого Анна больше всего боялась.
— Я звоню по поводу твоей матери, — сказала Фелиция Кэмпбел. — Ей становится хуже…
Первоначальной реакцией Анны была улыбка в ответ на такое необычное выражение, как будто Бетти неправильно повернула на незнакомой дороге и заблудилась. Затем до нее дошло: ее мать больна, возможно, при смерти. Анна знала, что это могло случиться в любой момент — преклонный возраст и годы жестокого обращения сыграли свою роль — но все равно это известие вызвало шок. Едва положив трубку, Анна позвонила Лиз и договорилась встретиться с ней в больнице.
К тому времени как они приехали, было уже слишком поздно. Учтивый эмигрант-пакистанец отвел их в сторону и осторожно сообщил, что сердце Бетти остановилось. Анна молча стояла, в то время как Лиз требовала ответов. Сделали ли они все возможное, чтобы спасти их мать? Почему нет? Что это, черт подери, за больница такая?
На долю Анны выпало сообщить Лиз о том, что их мать, которая больше всего боялась долго умирать подключенной к машинам, оставила «завещание о жизни».
— Это то, чего хотела мама. И так действительно лучше.
Лиз изумленно посмотрела на сестру, а через мгновение опустила голову и заплакала. Анна знала, что все так и будет: сердце Лиз, зачерствевшее по отношению к матери, смягчится. Она плакала не только о Бетти, но и обо всех проблемах, которые навсегда останутся неразрешенными. То, что этот поезд давно ушел и их мать уже находилась вне досягаемости, казалось, не имело значения. Ее больше не было; и это все, что знала Лиз.
— Все приготовления сделаны, — спокойно проговорила Анна.
— Почему ты мне не рассказала обо всем этом раньше? — Лиз подняла голову, и в ее покрасневших глазах был упрек.
— Ты никогда об этом не спрашивала.
— Когда она?..
— Когда умер папа.
— Думаю, она хотела бы быть похороненной рядом с ним, — в голос Лиз вкралась горечь.
— Нет. Она сказала об этом совершенно определенно. — Бетти рыдала на похоронах их отца — слезами вроде тех, которые сейчас проливала Лиз, — но то, где она хочет быть похоронена, когда умрет, она знала наверняка. — Она будет лежать рядом с бабушкой — на другом конце кладбища, как можно дальше от Джо Винченси.
— И то слава Богу.
— Я должна позвонить насчет гражданской панихиды.
— Что мне нужно сделать? — спросила Лиз, но на данный момент она выглядела совершенно неспособной на что-либо, кроме как вытирать свой нос.
— Это может подождать до завтра, — мягко сказала Анна, составляя в уме список друзей и родственников, которым нужно будет позвонить. — Хочешь, чтоб я кого-нибудь попросила отвезти тебя домой?
— Почему бы нам не попросить об этом Дэвида? Он, вероятно, наверху со своим сыном. И святой Карол, конечно. Она бы наверняка настояла на том, чтоб он подвез меня, — голос Лиз дрожал; она облокотилась о стену и закрыла глаза. Смерть Бетти и разрыв с Дэвидом каким-то образом смешались в ее голове.
— Я тебя отвезу, — предложила Анна. — А утром мы вернемся за твоей машиной.
У Лиз был такой вид, словно она собиралась протестовать, но вместо этого со вздохом сдалась:
— Наверное, ты права. С моей удачей это будут двойные похороны. Я чувствую себя сейчас ужасно.
— Жизнь продолжается, — оживленно сказала Анна. Она знала, что Лиз хотела сострадания, но Анна больше не занималась обеспечением круглосуточной заботы и поддержки.
На губах Лиз появилась слабая улыбка.
— Ах да, конечно, жизнь продолжается. Выше голову, разве не это всегда говорила нам мама?
— У тебя все еще есть Дилан.
— Поверь мне, он единственный, кто держит меня на этом свете.
— Еще у тебя есть я.
— Я не знаю, почему ты так добра ко мне. — Лиз прислонилась к стене, сложив руки на животе, она походила на одного из пациентов. — От меня ведь не было особой помощи, правда? Как с мамой, так и с Моникой.
«Нет, не было».
— Я тебя прощаю, — сказала Анна.
Лиз удивленно посмотрела на нее. Конечно, она не ожидала, что Анна так сразу признает ее вину. Но вскоре выражение ее лица стало робким.
— Мне очень жаль. Правда. И я постараюсь загладить перед тобой свою вину. «Не поздновато ли для этого?» — проговорил насмешливый голос у Анны в голове. Но что толку было вспоминать прошлое?
— Я составлю список людей, которым мы должны позвонить. Каждая возьмет половину.
— Только убедись, что Дэвид и Карол в твоем списке, — горько сказала Лиз. Они шли к выходу, когда она спросила:
— А что насчет Марка — ты собираешься ему сообщить?
Анна на секунду задумалась, а затем покачала головой. Он будет настаивать на том, чтобы приехать, а она не сможет выдержать еще и это после всего остального. С другой стороны, если она скажет ему не приходить, станет еще очевиднее, что это не настоящая дружба, а какой-то гибрид. Друзья заботятся друг о друге в такие моменты, они держат тебя за руку и вместе с тобой в молитве преклоняют колени. Если Марк не мог быть с ней рядом в трудную минуту, то зачем притворяться?
Марк сидел в окружении пациентов и членов их семей в комнате Си-4, которая выходила окнами на лужайку, где в данный момент один из его коллег, Дэнис Ходстеттер, успокаивал потерявшую рассудок молодую женщину, которая, положив ногу на ногу, сидела на траве. Марк подумал об Анне. Он где-то прочитал, что в эскимосском языке существует пятьдесят слов, чтобы описать снег. Разве не должно быть по меньшей мере столько же слов, чтобы полностью описать тоску о близком человеке?
Пока что это было очень напряженное собрание: один из пациентов, молодой бородатый артист по имени Гордон, во всеуслышание заявил, что в детстве он подвергался сексуальным домогательствам — и именно со стороны того мужчины, который сидел сейчас напротив него, — своего старшего брата. Гордон и его брат орали друг на друга, а их родители с болью в глазах наблюдали за ними.
Собравшиеся стали это обсуждать. Многие люди выказывали свой гнев и отвращение. Мохаммед Б. — выздоравливающий наркоман, чьи родители, истинные мусульмане, сидели молча, потеряв от потрясения дар речи, — хвалил обоих, Гордона и его брата, за то, что у них хватило смелости посмотреть правде в глаза. Мелани С., пережившая инцест, разрыдалась. Джим Т. тихим голосом сказал, что он не позволит себе что-либо комментировать: он может сказать что-то такое, о чем потом будет сожалеть.
Марк напомнил пациентам о том, что вся информация конфиденциальна, и пригласил Гордона и его брата поставить свои стулья в центр комнаты. Гордон был первым. Он говорил приглушенным голосом, почти шепотом, о той моральной травме, которую нанес ему брат, и о тех страданиях, которые он переживал в течение долгих лет. Его брат Том, очень аккуратно подстриженный в отличие от своего лохматого брата, слушал его со слезами, стекающими по лицу, и время от времени кивал, словно хотел подтвердить, что действительно доставил своему брату столько боли.
Это была самая тяжелая часть работы Марка: оставлять свои суждения за дверью; даже если его душили злость и отвращение, он должен был найти в себе силы остаться беспристрастным. Нельзя излечить, упрекая, он знал это; помочь может только открытое, честное обсуждение, позволявшее высказаться каждому человеку. Прощение не всегда оказывалось конечным результатом; некоторые обиды оказывались слишком глубокими и болезненными, чтобы их можно было простить. Но в данном случае Гордон мог простить если не своего брата, то хотя бы себя, и суметь жить дальше.
Мысли Марка снова вернулись к Анне. Он знал, что ему будет тяжело, но не думал, что боль не уменьшится со временем. Он постоянно думал об Анне, писал ей письма, которые затем комкал и выбрасывал в мусорную корзину, набирал сообщения по электронной почте, которые удалял, не отправляя, и каждый раз, когда он звонил, по меньшей мере дюжину раз вешал трубку, прежде чем набрать ее номер.
И какова во всем этом была роль Фейс? Не стала ли она для него потерянной надеждой, мертвой любовью? Марк начал полагать, что, думая о том, будто его жена когда-нибудь выздоровеет, он принимал желаемое за действительное. Но как врач Марк знал, что появился некоторый прогресс, если не ежедневный, то происходивший со скоростью, которая считалась космической в области психиатрии, не так давно полагавшейся на электрошок и инсулиновую терапию, с лоботомией в качестве последнего средства спасения. Марк видел такие чудеса. Например, та женщина из группы, которая буквально на прошлой неделе сама говорила о себе как о выздоравливающем шизофренике. Она откровенно и разумно рассказывала о борьбе со своей болезнью. И она даже не была здесь пациенткой; она приехала ради сына. Так что действительно существовала вероятность того, что в не слишком далеком будущем Марк посмотрит на противоположную сторону обеденного стола и увидит, что женщина, на которой он женился, улыбается ему в ответ. Если бы он в это не верил, ничто не могло бы сдержать его — он отправился бы прямо к Анне.
Приглушенным голосом, запинаясь, Гордон прочитал вслух свой список противоречий.
— В тот день, когда ты обвинил меня во лжи, после того как я рассказал папе о том, что ты сделал, я почувствовал злость, стыд и боль. В тот день на озере, когда ты заставил меня поклясться жизнью, что если я когда-нибудь…
Когда у Тома наконец появилась возможность ответить, выяснилось, что в этой истории не было виновника — оказалось, что Том в детские годы тоже подвергался сексуальным домогательствам. Это происшествие повлекло за собой последствия, которые экспоненциально увеличились со временем.
Марк разобрался со всем этим как раз к ланчу. Послышался всеобщий вздох облегчения, когда члены группы собрали свои вещи и направились к двери. Когда вышел последний пациент, Марк осмотрел пустую комнату, и ковер, на котором валялись смятые салфетки, напомнил ему поле боя. Если на данный момент кто-то и был проигравшим, так это он. Работа, которая поддерживала его во время заболевания Фейс, начинала разочаровывать; в его броне появились крошечные трещинки, и сквозь них проникали мысли и чувства, которые Марку удавалось подавлять, используя инструменты своего ремесла.

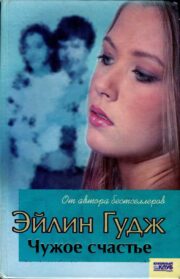
"Чужое счастье" отзывы
Отзывы читателей о книге "Чужое счастье". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Чужое счастье" друзьям в соцсетях.