Вот почему с настороженной нежностью и волнением я рассматриваю эту насыщенную тревогой комнату, на которую, наконец, снизошёл сои, а затем – рассвет; комнату и кровать, где покоятся два безрассудных нежных создания, столь беззаветно преданных своей мечте.
Любовь, домашние дела, работа в саду, полуночное чтение, приём гостей и ответные визиты, длинные подробные светские письма, английское чревоугодие, отдающее предпочтение и холодной баранине, и «десерту из пассифлоры, приготовленной с сахаром и мадерой», – до чего же быстро летит время!.. Как, уже двадцать… уже сорок лет, как мы вместе? Но ведь это ужасно… Мы ещё не успели сказать друг другу того, что нам хотелось сказать… Надо немного передохнуть… либо пусть всё повторится сначала… «Ах! – говорит себе с содроганием леди Элеонора, которой скоро исполнится восемьдесят лет, – эта малышка, Отрада-моего-Сердца, эта малышка, я вскоре оставлю её совсем одну… Но ведь только вчера, только сегодня утром я записывала в своём дневнике, как трогательно она даёт мне рвотное средство, с какой заботой и добротой, в чём всё счастье моей жизни, печётся обо мне, это дитя, Моя-Лучшая-Половина… Это дитя, которому только шестьдесят шесть лет и которое ничего не знает о жизни…»
Примерно в то же время был написан посредственный портрет, который так мне нравится, портрет двух старых дев в костюмах для верховой езды… Вскоре после этого пробил час, когда мисс Батлер умерла в возрасте девяноста лет.
Покинутая ею подруга не заставила долго себя ждать и всего лишь два года спустя снова встретилась с ней на заранее приготовленном ложе, в тесной комнате, ключ к тайне которой хранился за тремя чёрными печатями. Здесь я снова отдаю дань бессловесной вышивальщице, ибо если «Хэмвудская газета» придаёт значение письму, которое написал той, что потеряла свою половину, герцог де Веллингтон, и щеголяет этим письмом, то ни в одном из посланий Сары Понсанби не содержится жалоб на одиночество и тоску; она нигде не описывает смерть Элеоноры Батлер и не превозносит характер покойной. Одинокая и обездоленная женщина вновь оказывается на высоте, как в благородную и неистовую пору своей юности, когда она приняла решение умереть. Подобно тому как потерпевший кораблекрушение не помышляет о том, чтобы делать опись утраченных вещей, Сара Понсанби не собирается громко оплакивать свою подругу. Мне по душе короткое последнее письмо, опубликованное её мемуаристом,[29] которое нисколько не нарушает страстного безмолвия этой женщины и затушёвывает её образ былой суровой девической задумчивостью.
«…Приятель принёс мне сегодня утром шестнадцать гераней, из них четырнадцать новых сортов, хотя, как я полагаю, у меня уже восемьдесят видов герани. Я пришлю вам их список. Хотя они ещё дети, ближайшей весной они могут стать родителями, и тогда их потомство не уступит вашим цветам. Я благодарю вас за семена Heartsease[30]; боюсь только, что в это неблагоприятное время им будет трудно взойти…»
Тысяча восемьсот тридцать первый год… Ровно век минул с тех пор, как угасла та, что пережила свою подругу. Сможем ли мы вообразить без опаски двух дам из Лэнгольна 1930 года? Дешёвая машина, комбинезоны, сигареты, тесный бар и короткие волосы – таковы они сегодня. Не разучилась ли Сара Понсанби молчать как прежде? Возможно, при помощи кроссвордов. Элеонора Батлер чертыхается, поднимая домкрат, и удаляет свою грудь. Она уже не здоровается приветливо с деревенским кузнецом, а запросто общается с владельцем гаража. И вот, двадцатью годами раньше, Марсель Пруст наделил её желаниями, привычками и неприличным лексиконом, показывая таким образом, как плохо он её знал.
С тех пор как Пруст пролил свет на Содом, мы относимся с пиететом к тому, что он написал. Мы не дерзнули бы прикасаться после него к этим затравленным существам, тщательно заметающим свои следы и распыляющим на каждом шагу защитную жидкость, как каракатица.
Однако – заблуждался ли он или был несведущ в данном вопросе? – когда он населяет Гоморру непостижимыми и порочными девушками, разоблачает сговор и неистовое братство злых духов, мы лишь посмеиваемся и снисходительно-вяло глядим на это, утратив живительное чувство ошеломляющей правды, которое вело нас через Содом. Дело в том, что Гоморры просто не существует, как это ни досадно для фантазии или заблуждения Марселя Пруста. Половая зрелость, гимназии, одиночество, тюрьмы, извращения, снобизм… Жалкие питомники, неспособные породить и выпестовать массовый укоренившийся грех с неизбежно присущей ему круговой порукой. Безупречный чудовищный и бессмертный Содом взирает свысока на свою хилую сестру.
Безупречный, чудовищный и бессмертный… Какие громкие слова, свидетельствующие об уважении, по крайней мере о таком, с каким следует относиться к силе. Я не отрицаю этого. Женщина, само собой разумеется, плохо разбирается в педерастии, но, сталкиваясь с ней, принимает позу, которую подсказывает ей чутьё. Так перед лицом врага жук-бронзовка падает на землю и притворяется мёртвым; большой краб застывает, поднимая свои изогнутые клешни, а серый геккон, распластавшись, прижимается к серой стене. Не нужно требовать от нас того, что превышает наши возможности.
Женщина, которой мужчина изменяет с мужчиной, понимает, что всё пропало. Сдерживая слёзы, крики и угрозы, составляющие её основную силу в обычных случаях, она и не думает бороться, забивается в угол либо молчит, слегка негодует и подчас ищет пути недостижимого союза с врагом, с грехом, который, как и она, существует с незапамятных времён, с грехом, который не она выдумала и вывела в свет. Она держится отнюдь не так, как мужчина, взирающий с похотливой усмешкой на женщину, которую обнимает подруга: «Ты мне ещё попадёшься…»
Избавившись от иллюзий, она с ненавистью отступает, тщательно скрывая свою крайнюю неуверенность: «Был ли он действительно мне предназначен?», ибо она унижена больше, чем можно предположить. Но, поскольку её тонкому уму недостаёт дальновидности и она осуждает естественные порывы души, ей не удаётся отличить их от телесных влечений, и она упорно продолжает путать «гомосексуалиста» с «женоподобным мужчиной».
В один из периодов своей юности я много общалась с разными гомосексуалистами благодаря одному из секретарей – литературных «негров» господина Вилли.[31] Вспоминая об этом, я возвращаюсь в то время, когда моя душа жила в странном состоянии оцепенения и затаённой скорби. Будучи всё ещё сущей провинциалкой – не так ли, дорогой Жак-Эмиль Бланш?[32] – необщительной до того, что избегала некоторых рукопожатий и поцелуев, я одинаково страдала и когда сидела одна, позабытая всеми, в квартире, наводившей на меня тоску, и когда была вынуждена выходить из неё на люди. Я с большой радостью приняла дружбу секретаря Вилли, такого же «негра», как и я, весёлого и насмешливого юноши из хорошей семьи, нравы которого не оставляли ни малейших сомнений. Мы с ним вместе корпели – данное выражение развеселит также Пьера Вебера, Вийермоза, Курнонски и некоторых других – в одной и той же литературной «бригаде».
Он одарил меня доверием и привёл ко мне своих приятелей. Их общество возвращало мне мою молодость. Я смеялась, обретая уверенность среди всех этих безобидных юношей. Я узнавала, что носит мужчина, который хорошо одевается; это были в основном англичане, неукоснительно строгие в вопросах моды, и даже парень, тайком носивший на шее бирюзовое ожерелье, не позволял себе экстравагантных галстуков и носовых платков.
В мастерской, прилегавшей к комнате, где находились трапеция, брусья и гимнастические кольца, той, что сообщалась с моими супружескими апартаментами и которую я гордо именовала «моя холостяцкая берлога», мы хохотали, как школьники, беспечно, взахлёб, и какие странные разговоры вели между собой эти джентльмены!
– Что слышно о вашем милом картонщике, дружище?
Человек, к которому обратились с этим вопросом, высоко поднимал брови, и тут становилось ясно, что он подкрашивает их карандашом.
– Милый картончик? Милый картончик? О какой вещи вы говорите?
– Нет, я имею в виду парня, который делал картонные коробки для шляпниц и парфюмеров…
– Так речь идёт о картонщике! У меня короткая память. Спросите-ка лучше о пожарнике парижского округа!
– Пожарник? Какой ужас!
И тут же, как перчатка после пощёчины, вылетала и бросалась в лицо гордецу визитная карточка и неприклеенная фотография.
– «Какой ужас», не так ли? Держите! Вот что заставит вас изменить своё мнение… Обратите также внимание на портупею с боевым оружием…
Мой бывший друг С. из X., знаменитый, превосходно сохранившийся космополит, который уже умер от старости, человек с молодой душой и чарующей учтивостью, дружбу с которым я по сей день оплакиваю, поднимался на четвёртый этаж не без труда. Крашеная борода в духе Генриха IV скрывала его «подгрудки старой коровы», как он выражался. От беспрестанных усилий пережить самого себя его виски увлажнялись потом, и он слегка протирал их платком. Я мысленно вижу его худые руки, по которым ветвились побеги выпирающих вен, серый пиджак, серо-голубой носовой платок из шёлка и сине-серые уже выцветшие зрачки, а также артистическую улыбку растянутых губ… Этот старик, который ничего не стыдился, ухитрялся никого не обижать.
– Уф! – вздыхал он, опускаясь на стул. – Где мои чудесные шестьдесят лет?
Жан Лоррен рассказывает о нём на страницах «Парижских развалин». Он называет его «самыми красивыми плечами столетия», если я не ошибаюсь.
– Где это вы так запыхались? – спросил его некий грубый молодой человек.
– Я иду от матери, – отвечал С., теша себя откровенностью, ибо он, будучи нежным и заботливым сыном, и вправду жил вместе с матерью, которой было почти сто лет. Он смерил юношу взглядом и жёстко прибавил:
– Я ни с кем больше не общаюсь, сударь, кроме неё. А вам говорили, что я общаюсь с кем-то ещё?
В то время как молодой человек подбирал слова для ответа или извинения, С. разразился сдержанным смехом и сказал, обращаясь ко мне:

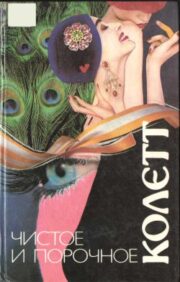
"Чистое и порочное" отзывы
Отзывы читателей о книге "Чистое и порочное". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Чистое и порочное" друзьям в соцсетях.