– Да, мама. Я уже ответила. Это так, пустяки, – произнесла дочь. И снова воцарилось молчание. Мрак все сгущался и сгущался в пустой передней, во всем пустынном мире и в сердце Жуаниты.
Дни шли за днями. Но что-то новое вошло в жизнь Жуаниты.
Все случившееся: встреча с Кентом на скалах, их беседа, то, что он провел ночь на ранчо и ускользнул, даже не простясь, что он стоял под окном и наблюдал за ней, этот таинственный эпизод с дамой под вуалью – все это Жуаните, не склонной к подозрительности, по-детски доверчивой, скоро стало казаться простым и естественным. Может быть, он счел неудобным явиться в дом в такой поздний час… А до секретов незнакомой приятельницы сеньоры, ей, Жуаните, нет никакого дела!
Но то, что Кент, сказавший ей глазами, что она ему нравится, Кент, неожиданно пробудивший в ее сердце теплые, дружеские чувства к себе, проявил затем равнодушие и небрежность, это было очень трудно пережить.
Она жаждала поговорить с ним еще. Все ее мысли облекались в форму разговора с ним. В холодные вечера, кутаясь в ветхую, вылинявшую японскую шаль, она задумчиво смотрелась в зеркало.
Гибкая фигура, голубые глаза в черной бахроме ресниц, ореол золотистых завитков – и никто, никто не видит всего этого!
Она пыталась смехом, молитвой, усилием воли отогнать то, что вошло в нее, но оно оставалось там. Что-то случилось с ней. Жизнь на родном ранчо неожиданно стала казаться нестерпимо скучной. Иногда она ненавидела Кента Фергюсона, иногда же трепетала от чувства, далеко не похожего на ненависть. И ни о чем ином не могла думать.
Новая тень омрачила ее дни. Сеньора Мария все не поправлялась и не вставала с постели. Временами ее мучило удушье. Когда оно проходило, Жуанита читала ей вслух. Дни становились все короче, темнело рано. И вокруг стояла такая тишина, что даже воркование голубя за окном спальни заставляло обеих женщин вздрагивать.
А вечером извне не доносилось уже ни единого звука. В комнате слышался только ровный голос читавшей Жуаниты, размеренно тикали часы, да попугай возился в своей клетке.
Больная лежала спокойно и молча, словно восковое изваяние под ярким индейским одеялом.
– Мама, тебе бы следовало посоветоваться с доктором, – неоднократно умоляла ее Жуанита. Но мать только улыбалась и качала головой.
– Это обыкновенная простуда, – уверяла она, тяжело дыша.
Однако, на десятый день Жуанита потихоньку съездила в Солито и поговорила с врачом. Он как будто тоже придерживался мнения, что простуда сеньоры не была таким пустяком, как ей казалось.
В тот же день все вокруг странно изменилось, мир для Жуаниты задернулся черной завесой. Обращение к доктору словно приблизило удар. Если, как уверяла сеньора, она до сих пор не нуждалась в помощи врача, то за несколько часов положение ее стало настолько серьезным, что никакая помощь не могла уже спасти ее.
Она лежала так же тихо, как все эти дни. В кухне болтали девушки, кричали дети, а за окнами слышалось мычание коров, скрипели ворота, вдалеке шумело море.
Жизнь текла обычным порядком. Так же каждое утро дети приносили на кухню для сеньоры только что снесенные яйца, еще теплые, с приставшими к ним мелкими перышками. Так же кружили над гумном шумные чайки, так же поднималось кроваво-красное солнце над холодным, серым, как сталь, морем.
А сеньора умирала.
Жуанита, не хотевшая верить этому, подавленная и оробевшая, днем и ночью ухаживала за матерью. Ей помогала Лолита. Но больная требовала очень мало забот. Попросит порой глоток холодной воды, пробормочет что-то глухо и невнятно, покачает тревожно головой и снова лежит тихо, как восковое изваяние.
В последний день ее жизни лампы зажгли рано, в половине пятого. На море начинался шторм. Над опустевшим двором носились листья, все птицы попрятались еще засветло. Приходил и ушел священник, уехал и доктор, сказав, что никакого изменения в состоянии больной пока не предвидится и что он приедет еще раз вечером. Он надеялся, как он сказал Лолите, увидеть пациентку еще на ногах.
В слабо освещенной комнате Жуанита сидела у постели матери. Все, что говорилось вокруг нее в эти странные, как будто не реальные последние дни, проходило мимо ее сознания. Она не верила, не могла верить. Мать выглядела так же, как всегда во время своих простуд. Девушка внимательно и боязливо следила за ней и, когда дыхание больной становилось неровным и тяжелым, ей казалось, что она сама задыхается.
– Нита, – произнесла вдруг больная очень четко своим обычным голосом, открыв глаза. – Я о многом думала сегодня. О вещах, о которых мне надо с тобой поговорить, – ты ведь уже взрослая. Как только я достаточно окрепну для этого, у нас будет длинный разговор.
– Ну, конечно, ты скоро поправишься, и мы будем много разговаривать, – сказала с глубокой нежностью Жуанита, встав на колени у постели и прижав руку матери к своей щеке.
– Знаешь, какое имя я пыталась вспомнить? – продолжала сеньора с тенью тревоги в голосе. – Это важно, очень важно… – повторяла она с тоской. – Не давай мне забыть его. Эта глупая слабость… и холод… У меня теперь постоянно какой-то туман в голове.
– Не надо расстраиваться, родная, – успокаивала ее Жуанита. – Ничего, потом вспомнишь!
Сеньора открыла потемневшие, глубоко запавшие глаза на синем, как свинец, лице.
– Сидни Фицрой, – сказала она внятно. – Вот это имя! Ты не забудешь?
– Ты хотела бы видеть этого человека? – спросила все так же спокойно и ласково девушка, никогда ранее не слышавшая этого имени. – Не позвонить ли мне ему по телефону?
– Нет, нет, нет! – взволновалась больная. – Ты никому не должна говорить этого имени – ни Лоле, никому другому – слышишь?! Это касается тебя одной, дорогая. Это странная история, Нита, странная и запутанная… Она знает все, – говорила умирающая серьезно, сжимая руку Жуаниты своими холодеющими пальцами. – Она знает это, – повторила она с легким нетерпением… – Та женщина, которую ты видела здесь ночью. Но тебе надо знать только имя. Скажи его ей, и она все поймет. Сидни Фицрой.
– Мне следует отыскать его, мама? – спросила Жуанита, когда усталый, дрожащий голос умолк.
Мать посмотрела на дочь странным, пристальным взглядом помутневших глаз.
– Да, моя девочка. Тебе было только десять дней, когда мы привезли тебя сюда, и никто не знает. И никто, кроме тебя, не должен знать это имя! Я обещала!..
Снова молчание. Она как будто медленно погружалась в темноту. Жуанита, все прижимая к своей горевшей щеке тонкую безжизненную руку матери, горячо, исступленно молилась про себя. Ее мать, такая нежная, учившая ее музыке, катехизису, гулявшая взад и вперед, как монахиня в монастыре, под старыми перечниками и эвкалиптами, всегда заботливая и терпеливая – уходила от нее, покидая ее навеки!
Еще раз устремились на нее неподвижные, мутные зрачки.
– Я должна была оставить ранчо сеньоре Кастеллаго, – прошептала умирающая. – Видишь ли, Нита, ты – не Эспиноза. Я не могла ничего поделать, родная…
Шепот снова замер, глаза закрылись.
Жуанита, мир которой в этот миг колебался и рушился, рассыпался в прах, с горьким рыданием приникла головой к подушке.
– О, мама, мама!
Холодные, легкие пальцы легли на золотые волосы.
– Я не мать тебе, Нита! Не мать… – шепнул слабеющий голос.
– Когда ты найдешь Сидни Фицрой… – Пауза. Потом Жуанита услышала шепот: «Господи, в руки твои… в руки твои… предаю… в руки твои…»
– Мама! – в агонии страха и горя вскрикнула Жуанита. – Мама! – Но голос ее без отклика раздавался в пустой комнате, где на постели лежал труп той, которая не была ее матерью.
ГЛАВА IV
Когда Кент Фергюсон вторично посетил старое ранчо Эспинозы, стояла зима, и был жестокий холод. День был солнечный, и гасиэнда в ярком свете казалась особенно ветхой и убогой.
Все двери хижин были закрыты, и дым из труб поднимался в холодном, неподвижном воздухе. Жуаниту он нашел одну, съежившейся у горячей печки.
Она показалась Кенту сильно изменившейся и встретила его долгим испуганным взглядом, словно выходца из другого мира.
Ни тени радости не мелькнуло в голубых глазах, веки которых отяжелели от слез и бессонницы. На бледном лице было выражение какого-то безжизненного спокойствия, которое совершенно преображало ее. Она сказала, слегка наморщив брови:
– О! Вы? Не угодно ли войти?
Кент, согнувшись, вошел в дверь.
– Я думал о вас все время, – начал он храбро, – и теперь, когда дела снова привели меня в эти места, я решил навестить вас и сам убедиться, что здесь все благополучно.
Жуанита уселась напротив него у маленькой печки. Но раньше, чем она успела ответить что-нибудь, он быстро сказал:
– Боже мой, да вы… – он оборвал, потому что голубые глаза, смотревшие на него, наполнились слезами. Кент сидел так близко от нее, почти касался ее рукава. Он нерешительно указал на ее траурное платье и снова шепнул: – Но это не… ваша мать?!
Бледное лицо судорожно исказилось. Дрожавшие губы крепко сжались. Она не могла выговорить ни слова и только утвердительно наклонила голову. Тогда Кент положил свою руку на ее и ближе склонился к ней.
– Бедная моя… маленькая… девочка! – сказал он. Жуанита, страдальчески посмотрев на него, высвободила свою руку, отвернулась и по-детски припала лицом к ухватившейся за спинку кресла руке. Кент смотрел на нее в безмолвной печали. Он видел, что ей неприятно его прикосновение и сочувствие.
Несколько минут она не шевелилась, ее плечи сотрясались от рыданий. Потом она повернулась, вытерла глаза, отбросила назад волосы и храбро взглянула на Кента сквозь длинные, слипшиеся от слез, как у плачущего ребенка, ресницы.
По мере того, как она рассказывала ему все, что произошло, рыдания все реже потрясали ее грудь. Кент слушал и думал о том, как она когда-то на берегу напоминала ему чайку, прыгая по скале, подставляя лицо свежему ветру и хохоча, когда волны настигали ее. А теперь бедной маленькой чайке подрезали крылья.

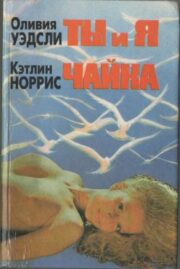
"Чайка" отзывы
Отзывы читателей о книге "Чайка". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Чайка" друзьям в соцсетях.